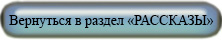
То, что история эта, так мало похожая на правду, не есть злостный своекорыстный вымысел, но дивно подвергшаяся приукрашениям и метаморфозам давняя быль, была рассказана автору одним из старожилов Марьина, в правдивости коей было получено от него клятвенное заверение. В своих, не имеющих предела, фантазиях люди, слышавшие ее, привносили в эту, когда-то истинно произошедшую историю частичку своего опыта, отчего она, как собранная мозаика из слов и мнений очень многих людей, постепенно приобрела черты фантасмагорические.
Некоторые стороны этой истории, не поддающиеся рациональному толкованию, рассказчики, ничтоже сумняшися, сваливали на прихоть судьбы, стечения обстоятельств, на происки чиновников, а то и просто нечистую силу в самых разных своих проявлениях, причем некоторые из чиновников ими были относимы ими именно к последней категории.
Много воды утекло с тех пор, и остались эти события в народе как некое сказание о своекорыстных злокознях людей, повинных в мытарствах одной несчастной женщины, утвердив их в памяти своей, как марьинскую легенду, которую автор и предлагает к прочтению и вящей пользе дорогих его сердцу читателей.
Неким весенним днем мужчина обыкновенной наружности лет тридцати пяти, еще не утративший упругую округлость щек, свойственную всем молодым организмам, оторвался от монитора часа в три пополудни и взглянул в окно. Там все брызжело и сверкало великолепием чистейшего майского дня. Ярчайшая синь небес после тошнотного, обрыдшего серого цвета клавиатуры заставила его на минуту зажмуриться. Разгибая затекшую спину, он с удовольствием потянулся и, встав с кресла, подошел к окну. С высоты одиннадцатого этажа раскинулся перед ним простор Марьинского парка. Проснулись в нем птичьи инстинкты, страстно возжелал он вылететь в окно, составить компанию стремительным ласточкам и другим пернатым существам, перелететь через тяжелую лазурь вод Москвы-реки и полететь дальше, за высотки на другом берегу... «О, господи, померещиться же такое!»,─ хмыкнул Карманов, ─ так и действительно сигануть в окно недолго!.. А вообще-то, рвануть бы сейчас на дачу, о-ог-р-р...», ─ утробным стоном завершил он свои размышления. Тем более что они были прерваны каким-то посторонним звуком.
Что-то неявное, но смутно-волнующее постепенно пробилось к его сознанию, и Карманов понял, что тот гул, который достигал его слуха через открытое окно, был ничем иным, как неспешным говором мужской компании, может, чуть-чуть подогретой парой принятых стаканов водки. Такое событие, как этот майский день, да еще выпавший на выходной, наверняка не мог быть пропущен дворовыми мужиками в своем стремлении пообщаться, поделиться, отметить его особым знаком внимания, то бишь, более полной складчиной на качественное водочное питье. Никому не хотелось, как в прочие дни, нагрузиться поскорее дешевой «паленкой»! Такой день должен быть отмечен особо! Карманов знал и другую сторону таких собраний, остающейся неизменной несмотря ни на какие погодные и финансовые условия. Наличие изобилия водки еще не означало такого же изобилия в закуске! Неприхотливость мужиков в этом компоненте своих застолий иногда поражала Карманова и уж, конечно, полностью его не устраивала. А посему, наспех выпив чаю с бутербродами, он завернул оставшиеся в пакет, ибо знал, что они еще пригодятся ему во дворе!
У стола, обсаженного кустами сирени и акации, в порядке, заведенном со времен устройства этого уютного и укромного уголка, сидели Иван Афанасич, Валерка по прозвищу Цыган, всегда угрюмый Пахомыч, мужик лет пятидесяти и еще один Иван по прозвищу Косой. Они потеснились и продолжили разговор, который Карманов прервал своим появлением. Судя по накалу эмоций, и разнообразнейших мимических состояний лиц мужиков, разговор был весьма занятным, в чем Карманов тут же убедился:
─ ...ну так слушайте, пока я еще не отпал! Через час будет уже поздно, и вы никогда… никогда, мужики, не узнаете всю правду об этой истории! ─ Иван Афанасич со строгой миной оглядел всех, словно желая убедиться в готовности каждого из присутствующих здесь мужиков внимать ему. ─ Говорить буду долго, потому опрокинем для начала! Хотя, если кто не хочет ее услышать, того прошу погулять где-нибудь в сторонке! Нечего перебивать меня! Твое дело, ─ он поворотился в сторону Косого ─ верить или не верить, но я расскажу так, как все было на самом деле!
Мужики тут же выразили свою заинтересованность в желании слушать Афанасича без передыху, ибо знали его как отменного рассказчика и привирателя! Почему, видимо, Косой и выразил свое сомнение в достоверности рассказа Ивана Афанасича. Но Косого, помимо Ивана Афанасича, осадили и сами мужики, желавшие послушать еще одну из замечательных историй из уст бывалого сказителя...
─ Да, было это, дай бог памяти, в ржаво-шершавом году, аккурат в то время, когда одна двухметровая обломина выкорячивалась перед всем народом в центре Москвы.
─ Это ты про кого? ─ заинтересованно рыгнул Цыган.
─ Известно, про кого! ─ ответил за Ивана Афанасича Пахомыч. ─ Ему бы еще перед этим ведро водки заглотить, так он бы всю Россию на куски голыми руками порвал бы на закусон, стервец!
─ Верно говоришь! ─ согласился Иван Афанасич. ─ Только тогда этого никто не знал. Поэтому этот обалдуй весь народ обвел вокруг своих оторванных пальцев. Ну, ладно, слушайте дальше. За точность не ручаюсь, но дело было так. Пропала баба. Ушла из дома и не вернулась. Такая, знаете, молодая, цветущая, полная сил любимая жена, обожаемая мамуля и почтительная сноха, как потом ее родственнички плакались. А жила она в нашем доме, как раз во втором подъезде, ─ и он многозначительно взглянул на Карманова. Что только не предпринимал Петька, ее муж! Морги, больницы, все места, где она могла бывать, обошел-обзвонил, ─ ничего! Приходил участковый, спрашивал, зачем она и по какой причине ушла. Петька сообщил, что она пошла в паспортный стол, чтобы штамп выправить. Что-то там с ним оказалось не в порядке. Она ходила на почту и ей отказали в выдаче посылки. В штампе была замечена неточность.
─ А как же она до этого жила? ─ заметил недоуменно Карманов.
─ Да вот так и жила, все как-то, видимо, привыкли и не смотрели штамп.
─ Заливаешь, как куча гадалок! ─ усмехнулся Карманов. ─ Чтобы человек жил с неправильным штампом о прописке? Гонишь понты и хочешь, чтобы тебе поверили!?
─ Не верите?! ─ вскричал в сердцах Иван Афанасич. ─ Да вон сам Серый идет, хошь, спроси у него.
Сереге заорали:
─ Серый, поди сюда!..
Серега, малый лет тридцати, с наложенной на лицо маской тяжкого похмелья, подошел и хмуро поздоровался.
─ Тут у нас разговор зашел о твоей матери. Это правда, что она пропала с концами и так и не нашлась?
─ Угу, мать не нашлась... ─ скучно сказал Серега и добавил. ─ Плескани немного, а то чей-то в горле запершило… ─ Он выпил, занюхал порцию кусочком хлеба и сказал: ─ Пойду. Надо дочь из школы забрать. Бывайте...
─ Ну, а я чего говорил! ─ с металлом в голосе уверенного в свой правоте человека обвел всех взглядом Иван Афанасич. ─ Так вот, искали ее месяца два, и, не обнаруживши тело, отплакали, помянули, да так и кончилось дело на том. А в то время начальником паспортного стола был майор Завьякин Андрей Завьялович, мужик представительный, только, почему-то, манерой общаться сильно смахивающий на заматерелого братка, ─ и тот только руками развел. «Паспорт ее», ─ говорит, ─ «у меня лежит, но раз нет правильного штампа в паспорте, то, стало быть, нет и документа. Как выправлю, так сразу и отдам! А про жену вашу ничего не знаю».
Про майора говорили, что он был ретивым служакой. А тут, увидев такой непорядок в документе, в паспорте, то есть, без разговора забрал его у бабы, кинул в стол и сказал: «Разберусь, тогда выдам!».
А пропала она, я думаю, вот так. Видно ее сильно расстроила такая ситуация с паспортом, и пока она шла по улице, как нарочно, случилось проезжать ментовскому патрулю. Видать, что-то им не понравилось в лице Маньки, это ее звали так. ─ Иван Афанасич снова посмотрел на Карманова. ─ Может, по случаю лишения своего паспорта, выражение ее лица было не слишком мирным, не знаю, только посадили они Маньку в машину и тут же потребовали документ. Наверное, для выяснения личности. А Манька вообще была баба с мнением о себе значительным и точно, не сдержалась она и высказала им все, что думает о такой ситуации и о них самих. Наверное, нервы подвели. Понятное дело, менты не стерпели и прямым ходом в отделение. В «обезьянник»! Вот с этого времени ее местопребывание уже никто не смог определить. Исчезла, испарилась!
─ Ну фигня это! ─ сардонически воскликнул Цыган. ─ Не менты это! Тут надо определить еще, кто так мог Маньку упрятать?! Это ее свекруха заговор на нее сделала, потому что моя мать слышала, как та болтала с бабами про знакомую ведьмачку!
─ Чушь несешь! Там другие разговоры шли. Петьке, сочувствуя, все в один голос говорили: «Что поделаешь, раз такое случилось! Оно даже как-то и легшее стало», ─ утешали его соседи. ─ «Нет ее, и расходов на похороны не предвидится!». И то, правда, мужики, всему свой срок! Жизнь-то дальше идет. Вот поразмышлял так Петька, отгоревал свое и вдруг через некоторое время начал замечать, что свобода есть чувство не менее ценное, чем все блага семейного счастья. В самом деле, и выпить можно с устатку, когда хошь, и после работы не нужно лететь домой сломя голову, как угорелый! Это он нам сам так говорил потом. Детки его тоже как-то свыклись с тем, что матери больше они не увидят и нашли в этом даже некоторую пользу. Бабка им растолковала, что они и так вырастут без мамки, а вот без пряников и конфеток к празднику они точно не останутся. Уж она-то, их бабка, об этом позаботится. Вот так мамаша Петькина всех подзуживала, пока не внушила им всем нужные ей мысли.
А дальше началось какое-то ведьмовство. Вскоре в семье стали замечать, что возле них обретается еще какая-то женщина. Пытается обратить на себя внимание, виновато улыбается и прочее. Как Петька рассказывал, чувиха какая-то старая приперлась и заявляет с порога: «Жить здесь буду, право имею. Я жена твоя!» А Петька ей говорит: «Заливай кому другому! Моя жена по полгода не шляется неизвестно где! Куда тебе, старухе, в мои жены лезть!».
Баба, как водится, слезу пустила, но Петька отшил ее наглухо. Баба слезно просила посмотреть их фотографии. Намекая, что и она там изображена. Но семья уперлась, говоря, что залапает, загадит своими грязными пальцами светлый лик их нежно вспоминаемой жены, матери и снохи! Это они так сами про нее говорили и в милиции и во дворе. И отказали. И то, если разобраться, эта косматая, седая и извазюканная баба никак не походила на светлый образ дражайшей супруги, обожаемой мамули и покорной снохи, ─ утрированно гыкнул Иван Афанасич. ─ А главное, под конец Петька паспорт у нее спросил, а баба тут совсем сникла. Постояла, и поперлась назад. Однако дочь вынесла ей в одноразовой тарелке каши, что осталась от обеда, и дала два рубля мелочью. За что была обругана Петькой немилосердно: «Приучишь всяких, так и повадятся ходить сюда со всего района!».
Тут Иван Афанасич на некоторое время прервал свой рассказ из-за прихода самого Петьки. Мужики, желавшие прояснить истину от первого лица, быстренько предложили ему промочить горло, а затем в несколько голосов поинтересовались, ─ правда ли то, что говорят о его жене по всему району? И почему дело, бывшее так давно, до сих пор обсуждается бабками и прочим людом?
─ Конечно, правда! ─ ответил Петька. ─ Я и сам страдаю от этого выше крыши. Первые года спасу от разговоров не было. Чего только не болтали! И будто я Маньку укокошил, потом порубил, сложил в мешок и в реке утопил. Во дворе бабки, какой из них сослепу померещится Манька, будто видела ее только что, тут же начинают обсуждать ее появление на все лады! Прямо проходу мне не дают! Что не к добру это, когда мертвая вдруг начинает бродить по местам, где жила. А еще, будто Манька специально спряталась и караулит меня, не изменяю ли ей с кем-нибудь!
Мужики понимающе закивали головами. А Петька, распалившийся вдруг не на шутку, выдал им еще парочку подобных перлов дворовых сплетниц:
─ Одна из них говорила, что я держу жену в доме на привязи из ревности и никому не показываю, чтобы она не изменяла мне. А другая склеротичка без конца спрашивает: «Петь, а Петь, поди-ка на минуточку. Хтой-то к вам вчерась приходил? Шум, говорят, какой-то был? Вроде Манька твоя вернулась, ай нет?».
Но Иван Афанасич, будто приревновав Петьку к вниманию мужиков, быстренько оборвал его откровение и продолжил, словно и не слышал его слов:
─ Почему так случилось, неведомо, но объяснять это все стали крепкостью законов и их неукоснительным соблюдением. Люди вроде и не сопротивлялись, да и как сопротивляться, раз так положено по конституции. На то бумаги и существуют, чтобы порядок был и учет. А иначе, сколько лишних может образоваться личностей?! Так и до развала порядка недалеко. Мало ли кто удумает под чужим именем творить свои делишки! И без этого хватает такого, даже при нынешнем строгом учете...
Мужики одобрительно угукнули и качнули головами: «Правильно говоришь! Весь терроризм от этого и происходит!..».
...потому и не удивительно, что даже близкие и родные ей люди, ─ Иван Афанасич кивнул на Петьку ─ муж, дети и свекровь не признали ее, ─ закончил он и взялся за стакан.
И пока шло круговое опорожнение бутылки из единственного стакана, Карманов, ожидая своей очереди, несколько призадумался. «А действительно, что уж тут говорить о горемычной? Кто ее смог бы узнать после пережитого? Ведь женщину старит не столько время, как то, как она его прожила. Недаром же говорят в народе: «На ней, или на нем, лица нет...». После таких мытарств, не только человек лицо потеряет, а и памятник, будь он хоть из гранита, сотрется до оглаженной временем рожи скифского истукана. Вот поэтому исчезло ее красивое, московского типа лицо, каких много можно было встретить раньше, не пройдясь всего и пяти минут по улице, ─ состарилось, сморщилось и превратилось в извалянный в пыли ком жвачки». Поглощенный своими размышлениями, Карманов несколько пропустил продолжение рассказа Ивана Афанасича:
...уже потом дочь, помня папашины укоризны, при встрече с этой бомжихой, когда та бросалась к ней, говорила презрительно своим подружкам: «Она выдает себя за мою мать…». Ну и Серега, перепуганный насчет нее своей бабкой, вопил во весь голос при встрече: «Иди от меня, психованная…».
Тут мужиков снова прорвало. Припомнили еще много случаев, когда живой человек, но по бумагам числящийся пропавшим и среди самых ближних родственников становится вроде призрака. А уж про чиновников и говорить нечего. Те скалой за закон!
─ А вот еще знаю один такой случай, ─ вдруг подал голос до этого сидевший с мудреным видом Цыган. ─ Невесту у одного забрали, прямо с порога ЗАГС’а. Подкатила машина, менты выскочили, хвать ее и всё!
─ Что «всё», арестовали, что ли? Ну и что? Может, она в розыске была, а в ЗАГС’е ее опознали! ─ возразили ему мужики.
─ Не-е, не всё! ─ Цыган почему-то оглянулся и произнес с видимой опаской. ─ Это ее похитили инопланетяне!.. Они, то есть, менты, и были переодетые инопланетяне! Маскировка у них такая, чтобы никто не рыпнулся в момент похищения! Пока все придут в себя, начнут спрашивать, что да почему, а их и след простыл! Поняли!
─ Ну ты, Цыган, и загнул! ─ хором вскричали мужики. ─ Менты и есть менты! Если забрали, значит, зачем-то надо было! Или обознались!
─ Хрен вам! Ее жених так и не нашел свою невесту! ─ Цыган от возмущения даже брызнул слюной. ─ Я точно знаю, ─ ее похитили инопланетяне! Вот и Петькину Маньку тоже они свистнули, и пока держали у себя, она, то есть Манька, и состарилась! У них такое время, ─ старит людей сильно! Одна ихняя минута, что наш месяц!
─ Ага, инопланетяне! С ментовскими погонами! ─ растянул в саркастической ухмылке свой щербатый рот Косой. ─ Знаем мы этих инопланетян! К ним точно, только попадись, ухреначат туда, где сам бог не найдет! Уж я то знаю... ─ и Косой поник головой, уронив остатки своей усмешки под стол. Мужики знали, что Косому есть за что не любить инопланетян-милиционеров. Шесть лет жизни они похитили у него. Правда, способ милиционеры-инопланетяне выбрали традиционный, в зоне содержали, но все равно, Косому от этого не легче было. Но Иван Афанасич, увлеченный рассказом, пропустил этот вопль души обиженного ментами Косого, как и мужики, ударившиеся в обсуждение достоинств пропавшей Маньки.
─ Красивая была, что и говорить, ─ кивнул Пахомыч. ─ Помню, Витька к ней по молодому делу подкатить захотел. Петька, ─ Пахомыч обернулся к Петьке, ─ чего уж говорить сейчас, столько времени прошло, ты тогда как раз в отъезде был. Так не обломилось Витьке, отшила она его, красавца! Да много таких пыталось... Грешен, я и сам налаживался урвать кусочек... Облом! Так она и проходила одномужняя!
─ ...это уж потом, когда с паспортом приключилась у нее, она стала не такой разборчивой. И то сказать, жить на что-то надо? А так, то один худо-бедно кормит-поит, то другой. Не знаю, врали или нет, но об этом мне один мужик рассказывал, ─ контрапунктом возник голос Ивана Афанасича.
Сказав это, он замолчал. Мужики тут же воспользовались паузой и снова пустили пол-литра по кругу. И вовремя это сделали, ибо Иван Афанасич вдруг будто очнулся и продолжил:
─ Правда, иногда время от времени возникали разговоры о ней, будто кто-то видел ее то на площади трех вокзалов, то в других местах. Юрка-блондин, из пятого подъезда, когда вернулся из командировки клялся и божился, что видел Маньку в гостинице в городе, в котором был в то время и даже разговаривал с ней, но она, стерва, не взглянула на него, фыркнула и прошла мимо, как будто и не знала его с детского сада. А Иван вообще говорил, что видел ее по телевизору! Точно, Иван? Давай, расскажи, что ты там видел. Иван утвердительно кивнул и начал:
─ Как-то я смотрел вечером телек, где-то года два назад. Показывали какой-то репортаж с Гавайских островов, или не с Гавайских, может с Багамских, я начало не видел. Там мужик с микрофоном спрашивал какого-то толстяка, как ему отдыхается на этих островах. Тот, натурально, отвечает, что полный кайф и все в жилу. Чувствуется, что мужик этот упакован по самое не балуйся! Так вот к чему это я. Около этого толстяка лежала в кресле, ну, пляжное такое кресло, его баба. Я как взглянул на нее, так и обалдел! Это ж Манька была, вылитая твоя жена! Один в один! ─ оборотился он к Петьке. ─ Я тут же крикнул своей Зинке, и она, как увидела ее, даже завопила от огорчения, что как твоя баба всех обвела и так устроилась! Я ее спросил, может это не Манька? Зинка аж побелела от злобы и такой мне скандал устроила, что эта растакайка по островам ошивается, а она дальше дворового магазина с копейками, какие у нее есть и не бывает. В общем, уделала она мне такой скандал, из чего я заключил, что Зинка точно признала ее! Во какие дела! И как она там оказалась? Ты бы, Петь, ─ обратился он к Петьке, ─ запрос сделал через посольство, чтобы узнать, она это или не она?
Но Петька промолчал, а в разговор встрял Цыган и сказал значительно и авторитетно:
─ Это все дурь! Никакая Манька ни на каких островах не ошивается! У людей есть двойники, точно говорю. Вчера ко мне подвалили двое. Требуют вернуть пузырь, который я как будто у них намедни увел. А я ни сном, ни духом! Я вообще в тот день был у одного мужика в Монино! Они меня спутали! Пузырь у них взял мой двойник! Поняли! Вот и эта баба тоже двойник твоей Маньки!
Мужики посмотрели на доказательства правдивости слов Цыгана, красовавшихся на его лице в виде двух многокрасочных синяков, и понимающе ухмыльнулись. Может оно и так, только слишком убедительные свидетельства разноместных явлений пропавшей Петькиной жены слышали они за эти прошедшие года. И всегда рассказывали об этих явлениях люди, известные своей правдивостью и честностью.
Тут рассказ Ивана Афанасича мужикам пришлось прервать, так как за увлекательностью его сюжета они и не заметили, как опорожнили бутылку. Дело это тут же поправили, снарядив Петьку снова в магазин за пополнением. Едва Петька не отошел и десяти шагов, Иван Афанасич многозначительно произнес:
─ Скажу вам, мужики, пока Петьки нет, что его мамаша была бабой настырной и себе на уме. У нее за все те года, что Маньку искали, была только одна песня: «Не будь она строптивой, и все такое, бог не дал бы ей так пропасть!». Внукам ее причитания: «А помнишь, как вас мамка наказывала!?» стали чуть ли не молитвой, ─ с утра до ночи в уши жужжала! А уж с Петькой проводила такую психическую обработку, каких в психушке не бывает: «Найдешь себе еще сто таких! Только вспомни, что за идолище она была! Не отдохнуть мужику, ни выпить с друзьями! А к штампу ты уже сам найдешь жену себе, мать детям и своей матери потрафишь!».
─ Вот теперь встает вопрос, ─ хитро обвел всех взглядом Иван Афанасич, ─ а почему они тогда не опознали в бабе мать, жену, и сноху? Потому как в то время Петька с таких слов мамаши запил от чрезмерного количества свободы. А в таких делах по тем временам лишний стопарь уже накладно выходил, и ему не нужна была такая халявщица! А его мамаша только рада была, что вот так, ни за что ни про что избавилась от обрыдшей до печенок указчицы и командирши. Вот они и отказали этой бабе. В доступе в квартиру. Она документов не имела и доказать свои права и претензию на квадратные метры в квартире не смогла. Но да это ладно. Там еще одна сторона дела образовалась, и, я так думаю, она-то и сыграла главную роль в Манькиной судьбе.
Значит, в то же самое время, майор Завьякин, начальник паспортного стола, проникшись значительностью своей персоны, много приложил стараний, чтобы дело пошло быстрее. Никто до сих пор не понимает, что за интерес ему был, но он даже лично предупредил Петьку, что, пока суд да дело, на квартиру много охотников найдется, так что лишний раз стоит поберечься. Подделываются под родных, прописываются и готово, ─ отсуживают квартиру. Поначалу Завьякин разговаривал с Петькой как с родным, советы давал, что да как. Но потом, видя непонятливость, нерасторопность, несметливость или еще что дубины-мужика, впрямую вывел его на означенный «пенек», то есть на взятку! Дескать, присядь и подумай, стоит ли кочевряжиться ради возвращения из небытия любимой жены, родной матери и покорной снохи? А как время по всем срокам прошло, Завьякин, наверно, потерявший терпение, иначе, как мы все сейчас думаем, для этого он и паспорт забрал, и дело все подстроил, стал чаще тормошить Петьку. Раз уж все равно пропала его благоверная, то, чтобы сдвинуть дело его жены с мертвой точки, и убрать из квартиры лишнюю запись в домовой книге, он деликатно так намекнул Петьке, что неплохо бы и подмазать это дело. Да так тонко это делал, что, наконец, Петька смякитил, что Завьякин на взятку напрашивался. У него на столе конверт лежал, так Завьякин его поднял, заглянул туда и говорит Петьке: «Странно, но на конверте написана твоя фамилия, а он пустой...».
А как до Петьки дошло это, уже дома, так он взбеленился: «На что жить, и детей учить-кормить! Да я и сам еще не старый, мало ли мне куда деньги нужны! За просто так люди не пропадают! Теперь понятно, что с любовничком куда-то свалила! Стерва на вывеску свою богата была. То-то я всегда примечал, что как куда идет, обязательно намажется, что твоя шлюха! А я из-за нее теперь должен кормить всяких Завьякиных! Хрен с ней, надо будет, выпишется сама! Не вечно же ее будут числить в пропавших! Заявление подам и буду ждать!». А мамаша его, слыша, как он убивается, обязательно масла в огонь подольет: «А я тебе что говорила! Женится надо было не на смазливой, а на сметливой! С лица воду не пить, зато спокойнее с такой не в пример!..».
Петькин приход снова прервал стройность рассказа Ивана Афанасича. Петька молча свинтил пробку с бутылки, налил себе стакан и, предварительно хекнув, привычным жестом опрокинул его в рот.
─ Все, мужики, пошел я. Стирать пеленки-тряпки надо для мамаши!
─ Чего ты мучаешься! ─ не удержался от совета Цыган. ─ Ты памперсы купи ей! ─ Они часа два продержаться и стирать не надо. В мусоропровод и все дела!
Петька устало зыркнул на Цыгана и нехотя ответил:
─ Эти памперсы с неба не падают... Их еще купить надо. А они, знаешь, сколько стоят? Нет уж, лучше я на порошок потрачусь да старые тряпки. Хуже всего, что ей постель каждые полчаса перестилать нужно! А то в доме будет такое амбре...
Он не договорил и, махнув рукой, ушел. А Иван Афанасич, который к этому времени и без того уже лишившийся немалой доли связности в речи, доводил до слушателей трагические моменты жизни несчастной Маньки. Видно, не зря Иван Афанасич предупреждал о своей скорой неспособности открыть всю правду о ней. С трудом оборвав вышедшую из под его контроля одновременную говорильню всех мужиков, Иван Афанасич сделал несколько энергических выдохов и продолжил:
─ Говорят, что, отчаявшись, Манька кидалась, подкараулив, в ноги начальнику всего нашего района... Да тот, не побрезговав, самолично, ─ тут Иван Афанасич поднял вверх палец, словно призывая мужиков обратить внимание на этот поступок начальника, ─ приподнял с колен Маньку и распорядился накормить и отмыть ее в бане, дабы в следующий раз своим видом не пугала начальствующих особ. И тут же организовался стихийный митинг, на котором он, то есть начальник всего нашего района, указывая на Маньку, очень чувствительно и с напором сказал: «Вот ради них стоит жить и работать, не щадя сил! Это явление надо искоренить в зародыше!».
Находившийся при нем большой ментовский чин сделал незаметный жест. Как только удовлетворенный начальник всего района отбыл, Маньку подхватили под ручки мужички с автоматами и в бронежилетах и, не медля, куда-то укатали, бедную...
Мужики тут же, не сговариваясь, опрокинули по дозе, поникли головами, видимо, припомнив свои памятные встречи с сими молодцами...
─ Да, видать так далеко ее укатали-искоренили, что снова она объявилась в наших местах через два, или три, не помню точно, месяца. И то, свидетелей ее возвращения в наши края не было. Только слухи, будто она бродит как призрак по двору, но никто не верил в это до поры до времени... Ладно, об этом потом, а пока слушай дальше, чем дело с начальником всего нашего района кончилось, ─ персонально обратился к Карманову Иван Афанасич: ─ Справедливости ради, надо сказать, что начальник всего нашего района был человек мягкосердечный и душевный. Дал он указание разобраться. Во всем этом деле досконально. Вызвали начальника паспортного стола майора Завьякина наверх, к высокому начальству и спросили: «Что это за жалобы от населения беспокоят начальника всего нашего района? Почему такая промашка в работе?». На что майор Завьякин ответил: «Никак нет, никакой промашки допущено не было! В документе непорядок, штамп не соответствует! А посему назначена и идет проверка дефектного штампа!» И отрапортовал он так молодцевато, что начальство его подумало: «Дело майор знает! Пусть работает!».
─ Да откуда ты знаешь, что и как они там болтали? ─ со скептическим недоверием спросил Косой.
─ Потому что знаю! ─ сверкнул глазами на него Иван Афанасич. ─ Не знал бы, не говорил! ─ Приведя такой неотразимый аргумент, Иван Афанасич недовольно добавил. ─ А вообще, не хочешь не слушай! Я, кажется, предупреждал об этом!
─ Чего предупреждал!? Я эту историю слышал по-другому! Не было там никаких разговоров о начальниках!
─ Ладно вам! ─ примирительно гаркнул Пахомыч. ─ Эту историю я хотя и знаю, но все равно до сих пор не могу поверить, что так было на самом деле! Хотя кое-кому тут было бы интересно ее послушать. Вдруг кому пригодится для книжки. ─ И он многозначительно посмотрел в сторону Карманова.
─ Что-то мне с трудом вериться, что такая история могла произойти! Сказки это всё! ─ усмехнулся Карманов. ─ Ну с чего-пошто начальнику паспортного стола надо было отбирать паспорт? Да и как могло получиться так, что в то время пропал человек и его никто не стал искать!? Даже интересоваться, что это за женщина такая мозолит всем глаза своей настырностью? В наше время и то людей ищут, а не то, что двенадцать лет назад!
─ Ну, а я что говорю! ─ опередил всех Цыган. ─ Без нечистой силы или инопланетян тут не обошлось!
─ Чего там «инопланетян», «нечистой силы»! ─ цыкнул на него Иван Афанасич. ─ Вот такой случай произошел! Может, один на миллион... Так сложились обстоятельства! То, что это было все так, как я рассказал, может подтвердить Пахомыч!
─ Все равно, это неправдоподобно! А поговорить с ней, пообщаться не пытались?
─ Да не, нашего брата она сторонится. Из этих, чистоплюйных была. Во, легка на помине, вон идет, ─ указал он на маленькую женскую фигурку, бредущую по тротуару у дальнего подъезда. Мужики сочувственными взглядами проводили скукоженный, почти бесплотный силуэт в мешковатом пальтишке серо-грязного цвета, который торопливо проскользнул мимо.
И тут это обстоятельство показалось Карманову совсем уж несуразным. Смеются они над ним, что ли!? Рассказывали о давнишнем случае и тут же тыкают пальцем в какую-то бабу, которой и лет-то за треть срока жизненного не перевалило. Указал он мужикам на это несоответствие, а те ни ухом, ни рылом не повели. Ну и что, говорят. Она вселяется в других баб и бродит здесь который уже год в укор нашему районному начальству.
─ И ничего с ней, то есть с этим призраком Маньки поделать не могут. К ней даже подойти нельзя! Она сразу же исчезает. ─ Иван Афанасич покрутил головой и хмыкнул. ─ И Петька, и дети ее пытались остановить, все бестолку. Видно, обиделась она в свое время на всех сильно, вот теперь и мозолит глаза во дворе который год! Самое удивительное, что если на ее пути поставить бутылку пива и какую-нибудь закуску, то она это возьмет и тут же пропадет.
─ Да может это кто другой подбирает ваше пиво! ─ иронично возразил Карманов.
─ А вот и нет! Мы как только не следили за ней, всех отсекали в это время на ее пути, ни-че-го!
─ Ну и что, вот так ходит и все? Она хоть чем-то себя проявляет? ─ насмешливо спросил Карманов, которому вся эта история сейчас уже казалась наглым розыгрышем сговорившихся мужиков.
─ Ну, конечно! ─ чуть замутненным взглядом воззрился на него Иван Афанасич. ─ Она сначала только обозначила себя во дворе, непонятно было, кто это пугает по вечерам наших жителей! А уж потом только стало ясно, что ходит по вечерам и жалостно так проситься переночевать привидение Маньки. А кто откажет ей, или прогонит, сам потом пропадает без следа. Точно говорю, я слышал о таких случаях, а некоторых пропавших даже знал лично.
Тут мужики все враз с жаром заговорили, подтверждая слова Ивана Афанасича. У каждого из них нашлось что сказать, как будто ждали этих слов. А в доказательство самой истинности этой истории сообщили факт пропажи того самого начальника паспортного стола Завьякина, который имел неосторожность так недальновидно обойтись с паспортом бедной Маньки. Если та и оборотилась привидением, то только затем, и это совершенно точно, чтобы наказать майора за нечуткое и черствое отношение его к людям.
─ И что же с ним сделалось? ─ полюбопытствовал Карманов.
─ Чего сделалось? Да ничего! ─ ответил Иван Афанасич. ─ До сих пор не могут понять, как могло такое произойти, что среди рабочего дня, майор вышел из кабинета по какой-то надобности и так туда и не вернулся! А на стоянке у здания ОВД, где он парковал свою тачку, в машине была обнаружена его одежда, вся, что на нем была, вплоть до исподнего, правда, не совсем чистого, а, если точно сказать, обделанного. Видать, майор струхнул малость, когда его кто-то вынимал из одежды! Одежда его аккуратненько так висела на водительском сиденье, будто сам майор сел за руль, да и испарился!
─ Странно, но муж-то ее уж больше всех, наверное, виноват! ─ задумчиво проронил Карманов. ─ Он ведь не захотел признать ее как свою жену! И детям тоже запретил это делать! Вот его-то покарать и надо было бы в первую очередь! А он до сих пор живой-живехонький!
─ Ну, знаешь, мы тоже об этом много думали. Бабскую логику понять трудно! Может, она пожалела своих детей, которые сиротами остались бы, пропади Петька. Зато свекрухе своей она устроила такую житуху, что и не позавидуешь!
─ Какую житуху? ─ живо спросил Карманов.
─ Ты чего, забыл! Манька наслала на нее какую-то болезнь, отчего свекрухе вырезали мочеточник, или что-то там с мочевым пузырем сделали. Только ходит она уже двенадцать лет с трубкой в боку и разит от нее как от обоссанной тряпки!
Тут мужики, видимо, устав от этой неприятной темы, заговорили о чем-то другом, чего Карманов уже не слушал. Он думал о странных поворотах судьбы, по воле которой любой из них мог оказаться на месте несчастной Маньки.
Карманов поймал себя на мысли, что и сам много раз видел эту бесплотную серую тень, беззвучно скользившую мимо него. Иногда ему случалось ловить ее взгляд и глаза этой тени, обращенные к нему, были совсем живыми, но тоскливыми и потухшими. И вместе с ним, будто изданная невпопад лопнувшей струной в слаженной людским счастьем симфонии жизни, пронзительно-грустной нотой вливалась в душу неизбывная человечья печаль.
…Полуразмытые лики, выплывая из густого сумрака, грудились в дальнем углу комнаты, будто боясь приблизиться к слабому светлячку ночника. Но тут же, не давая времени себя разглядеть, быстро истаивали, тускнели и исчезали в породившей их тьме. Василий Иванович, лежа огрузневшим телом на жестком диване, даже не делал попыток узнать в них чьи-либо черты. То ему брезжился образ давно умершей матери, то знакомые очертания ушедших друзей. «Игореша?… А почему он?… Игореша ведь живой…».
Василий Иванович осознавал эти мысли помимо своей воли, как будто они возникали перед его взором, как субтитры в кино. Он читал их там же, рядом с мерцающими видениями, на фоне едва виднеющихся библиотечных шкафов. Эти наваждения его не пугали. Наоборот, стали настолько привычными, что без них, чуждых его практическому, атеистическому складу ума, он уже никак не мог представить свои ночные бдения. В последнее время он часто просыпался ночью и долго лежал без сна. Он уже давно спал отдельно на диване в гостиной. Его беспокойный сон будил жену, и Василий Иванович, не желая ее тревожить, перебрался сюда.
Долгими томительными ночами, пересиливая не дающую заснуть тягомотную, грызущую все жилы фантомную боль, Василий Иванович постоянно видел возникающие перед ним видения. Он не был особенно склонен к самокопанию, потому никак не мог понять, что было в них для него явью, а что всего лишь бередящими душу фантомами памяти. Такими же фантомами, как и медленно просачивающаяся сквозь полудрему, изматывающая, предательски неумолимая боль в давно утраченной ноге.
Эти образы смешивались в один, совершенно неразличимый ряд. Василию Ивановичу стоило больших усилий, чтобы отличать еще живых, от тех, кто ушел в небытие. Он почему-то никак не мог отделить их друг от друга. К такому общению с ними Василий Иванович был вынужден приноравливаться каждый раз заново. С живыми он общался, мертвые молчали. И потому , вглядываясь в смутные очертания, непременно задавал им всем один и тот же вопрос: «Что скажешь?»…
Вот и сейчас, он лежал и думал, что Игореша, - еще живой, точно живой, потому как разговаривал с ним сегодня вечером по телефону, - почему-то не ответил ему. Василий Иванович знал все недуги старого друга, однополчанина Игореши. Болеет сильно, так у каждого из них прорва болячек… и это не повод сейчас отмалчиваться… Очень трудно стало последние годы общаться живьем… Телефон был единственной ниточкой, связывавшей их друг с другом. Обиделся Игорёша!
Василий Иванович хотел этим вечером объяснить ему, что надо рано утром съездить на кладбище к Степану, и что нога теперь частенько бывает стерта до крови под протезом, и что не спит по ночам от проклятущей боли… Но уж очень просил Игорёша его приехать, потому как сам он уже давно не вставал с кровати, а повидаться перед таким большим праздником в последний раз хотелось нестерпимо…
Василий Иванович вздохнул. Он тогда наорал на Игорёшу: «Чего разнюнился! Ты со своим параличом переживешь всех нас!…».
Огненный высверк от разлившейся по потолку трамвайной дуги отозвался в ушах визжащим на повороте скрежетом вагонных колес. Этот высверк и грохот трамвая какой-то дальней ассоциацией сложились в знакомые строчки стихотворения:
Гроза полночная проходит
За переплетами окна.
И как всегда при непогоде
Мне не дает уснуть война.
Опять я там, у Старых Роздых,
Где страшным бредом, - как мираж,
Взлетает медленно на воздух
Разбитый вдребезги блиндаж.
Я вижу, как вокруг ребята,
До крови закусив губу,
Припав в атаке к автомату,
Братались с пулей на бегу.
Им всем по девятнадцать было,
А жизни сроки прожиты…
Дождем свинцовым в землю вбило
России юные цветы…
«На забыл еще… Сколько я их за свою жизнь накропал…». Василий Иванович, натужно кряхтя, устроился на диване поудобнее и подтянул одеяло к подбородку. Он закрыл глаза. Веки выдавили из повлажневших уголков глаз горячую каплю слезы. «Что-то в последнее время стал раскисать…». Василий Иванович усмехнулся. Это последнее время слишком много вместило в себя переживаний, накопленной боли в измученном теле и проводов друзей… на кладбище… в последний путь… «Сколько прошло?… Всего-то полтора года со дня последней встречи наших мужиков… Коля Свирин… Степа Лагутин… точно, он как раз под конец февраля… Сколько придут в этот раз? Миша с Федором должны… Потом к Игореше поедем…».
Закрытые веки словно опустили занавес на глаза. Он больше не видел ничьих лиц, ничто не пробивалось в пульсирующую красными сполохами темноту наползавшей дрёмы. Василий Иванович где-то краешком сознания зацепил последнюю мысль: «Игореша…, что он-то хотел от меня?… Не может дождаться завтрашней встречи… Хм… Придем, куда мы денемся…». И как ни старался Василий Иванович избавиться от тревожной, поселившейся где-то далеко в подсознании мысли об Игореше, все же перед тем, как спасительное долгожданное забытье не погрузило его в сон, увидел Василий Иванович лицо друга. Его взгляд, полный невыразимой глубины, той, что бывает у человека, в единый миг постигшего вселенский смысл своего существования, был мудр, спокоен и отрешен…
Поднявшись еще засветло, Василий Иванович долго собирался, прилаживая протез, аккуратно выправляя мягкий байковый чехол на культе. Из своих семидесяти восьми, почти полвека он изо дня в день тратил силы на таскание полноразмерной пластиково-железной ноги. И посему это каждодневное утреннее действо давно превратилось для него в привычный ритуал. Василий Иванович в молодости, подтверждая свои могучие сибирские стати, ни в чем не отступал в жизни от своих нормальных сверстников. Для него даже танцы не были в обузу. Несмотря на свою прилаженную чуть ли ни к бедренному суставу опору, Василий Иванович на равных вальсировал среди всех прочих пар, не вызывая явного сочувствия своих партнерш…
После бессонной ночи пара глотков крепкого чая немного поубавила тяжести в гудящей голове. Снова отхлебнув горячей жидкости, он взглянул на часы. Минутная стрелка едва сдвинулась с половины шестого. «Рано…». Василий Иванович повел головой и снова с опасливым раздражением подумал: «Уж лучше рано, чем никогда…». Не далее чем вчера, возвращаясь домой в час пик, он всю дорогу в метро простоял на саднившей, растертой культе. Больше получаса он с безнадежно-усталым видом наблюдал, как сидящие перед ним четверо парней по семнадцать-девятнадцать лет, обхахатывая друг друга, ерзали по сиденью, взбрыкивая длинными, мослаковатыми ногами. Стоявшие рядом люди опасливо сторонились их размашистых игрищ. Никто даже не пытался хоть сколько-нибудь обуздать неуправляемое ничем, хотя бы зачатками интеллекта, буйное стадо молодой человечьей живности.
Василий Иванович, не имея возможности куда-либо отодвинуться сквозь плотную массу людей, вынужден был стоять рядом, уцепившись за перекладину. Он смог бы стерпеть их тупое безразличие к его особому статусу, но его терпение кончилось мгновенно после третьего толчка по ноге, на которой он едва стоял. Сунув под нос свою увесистую палку, развалившемуся напротив него парню, он, задержав свой взгляд на его безнадежно-глупой ухмылке, сказал:
- Еще раз заденешь меня, я тебя перетяну вот этим меж глаз!
Парни переглянулись. Один из них, сбросив с лица маску тупого, бессмысленного веселья, и, пережевывая пополам со жвачкой слова, протянул:
- Все путем, дед! А палочкой своей ты бы размахивал поаккуратнее… Нервы, знаешь, у нас не железные. Все может случиться…
Василий Иванович стоял около них, сжимая побелевшими пальцами палку. Бухавшая в голове острыми ударами мысль: «Не стоит, не тот день сегодня…» удерживала его от невероятного желания влепить в эту глумливую рожу наотмашь, что было силы набалдашником палки. Севшим от напряжения голосом он смог только сказать:
- Что, молодой да сильный!? Со стариками воюешь? Я в твои годы на другой войне был. Там не таких… обламывал… Те хоть не маскировались под своих…Но уж больно ты смахиваешь на фашистскую гниду.
Парни, враз попридержав свой гогот, уставились на Ивана Васильевича:
- У, блин, да ты у нас крутой!.. И как только ты уцелел! Те мужички таких, как ты быстро успокаивали…
Робкие голоса протеста двух-трех женщин вызвали у всех четверых лишь приступ хрипатого ржанья. Но, видимо, что-то в лице стоявшего перед ними ветхого старика им показалось такое, что парни, враз притихшие, погундосив между собой, встали и, протолкавшись к выходу, вывалились из вагона на следующей остановке…
Всю дорогу Василий Иванович с тихим удовлетворением отдавался наплывавшим на него откуда-то издалека, из совсем дальних уголков памяти, ощущениям тех незабвенных лет. И хотя сидящие напротив люди и гул вагона метро ничем не напоминали лица ребят, - молодых, крепких сибиряков и перестук колес эшелона, ровно полвека назад уносившего их к неведомому рубежу, от одного названия которого - «фронт» - холодило сердце и жаркая волна прокатывалась по всему телу, - все сейчас вокруг обратилось для него в несуществующее «здесь». Василий Иванович всем своим существом был там, в том дощатом вагоне-теплушке, где сидящий напротив его друг Борька, сильный, большой Борька старательно сопел над очередным письмом домой. И жить оставалось Борьке ровно пять дней, потому что через пять дней, на рассвете, когда их бригада прямо с марша устремится в атаку, упадет Борька ему на руки, на забрызганную кровавой массой шинель из снесенной осколком снаряда черепной коробки…
Через час, выйдя из метро, Василий Иванович огляделся. Он никак не мог сориентироваться в выходах этого лабиринта. А потому, как обычно, поднялся не там, где находилась остановка автобуса, идущего до загородного кладбища. Досадливо крякнув, Василий Иванович с раздражением подумал: «Склероз хренов! Сколько езжу, никак не запомню!..». Развернувшись, он осторожно стал переступать по одной ступеньке, каждый раз аккуратно опуская сверху протез.
Когда он дошел до остановки, там уже составилась внушительная разношерстная очередь. Это было довольно странно, учитывая предпраздничный выходной день. Вытирая пот со лба, Василий Иванович пристроился к ее концу. Отдышавшись, он взглянул на расписание. Полчаса ожидания до отправления автобуса ему не улыбалось провести стоя. На самой остановке, среди сидевших, он углядел свободное место. Предупредив стоящую впереди пожилую пару, Василий Иванович, тяжело опираясь на палку, добрался до скамьи.
Сидевшие на ней старушки с любопытством скоренько оглядели его с головы до ног. И все, как одна, задержали свой взгляд на его пиджаке, на котором не было свободного места от сверкавшей серебром и золотом орденской кольчуги.
- Много воевали, небось? – не удержалась от вопроса сидевшая рядом с ним женщина.
- Да нет, - мотнул головой Василий Иванович. – Просто много досталось.
Он так отшучивался. Василий Иванович всегда испытывал некоторое неудовольствие от подобных вопросов. По орденам и медалям и так все видно. Уж тем более его соседкам, наверняка знающим войну не понаслышке. Но женщинам, как видно, сидеть просто так было невмоготу. Та самая, что поинтересовалась его наградами, чуть спустя спросила:
- К кому едете? Родственник, какой, что ли?
- Считайте, родственник. Однополчанин, сорок дней сегодня…
- М-м... - Женщина понимающе кивнула головой. Василий Иванович закрыл глаза и привалился к стенке…
Всю дорогу Василий Иванович дремал. Ему хотелось еще немного побыть в этом полурасслабленном состоянии, но сорок минут пути пролетели как единый миг. Он тяжело вылез из автобуса и невольно зажмурился от яркой сини неба. «Хорошо…» - довольно выдохнул он. Было в этом сияющем светом и синью майском утре что-то торжественое и значимое. Василий Иванович, не торопясь, закурил крепкую «беломорину», оглядел каменный забор, внушительные кладбищенские ворота, и не спеша двинулся вперед.
До могилы Степана идти было недалеко. Проваленный холмик земли был еще утыкан старыми стеблями высохших, полусгнивших букетов и блеклыми венками из искусственных цветов. Василий Иванович по-деловому расчистил место с краю могилы и, вытащив припас, разложил его на газете. Открыв четвертинку «Столичной», он налил ее в два пластмассовых стаканчика, накрыл один из них ломтем черного хлеба и поставил в углубление между комьями слежалой земли. Поднял другой стаканчик, и, глядя на маленький квадратный кусок железа, укрепленный на кресте с надписью: «Лагутин Степан Иванович», глухо проронив: «Ну, что ж, Степа, пусть земля будет тебе пухом…», отпил глоток. Опустив стакан, Василий Иванович, как бы извиняясь, со словами: «Извини, брат, что не до дна… Здоровьишко, знаешь, не позволяет…», вылил остаток на землю.
Вспомнив, как лихо закладывал Степан, Василий Иванович усмехнулся: уж, конечно, будь он жив, не принял бы его извинений. Степа во всем был максималистом. Во взводе Степан был старше всех на два с половиной года. Но его жизненного опыта с лихвой хватило бы на какого-нибудь мужичка-сороколетка. Его неунывающую личность во взводе просто обожали. И когда, лежа во время жесточайшего обстрела, сквозь рев разрывов весь взвод слышал высокий тенорок Степана, во все горло вопящего частушки собственного сочинения:
Немец мины в нас бросает. Ж…пу он свою спасает. А мы вытрем им носы Об их сра…ые трусы…
- им всем становилось легче. И только во время одной из немецких атак Степану стало не до частушек. Отсекая фланговым пулеметным огнём пехоту от густого навала лязгающих траками железных коробок «тигров», он спас тогда от гибели весь взвод.
Укрывшись за поваленной снарядом метровой в диаметре елью, Степан, как заколдованный, под ураганным обстрелом ни на минуту не прекращал огня. Немцы ничего не могли поделать с его импровизированным дотом. И когда немецкая пехота залегла под непрерывным кинжальным огнем, а проскочившие через окопы «тигры» были сожжены и подбиты, его пулемет замолчал… Отбив атаку, Иван со своим взводом и медсестрой Олей бросились туда, где был Степан.
Добежав до изрытого, покрытого дымящимися кусками разбитой щепы места, они увидели Степана, лежащего ничком, накрепко вцепившегося в гашетки пулемета. Вокруг него тускло-золотой россыпью валялись гильзы и пустые магазинные коробки. Вся спина его была залита кровью. Даже осколок мины, вспоровший от ягодицы до плеча спину Степана, не заставил его прекратить огонь. Степан пришел в сознание и лишь глухо стонал, когда его огромное, под центнер тело втаскивали на волокушу из плащ-палатки.
Но даже тогда он остался верен себе. Этот неисправимый бабник, с распоротой спиной, истекая кровью, нашел в себе силы, глядя на крепкие, крутые бедра Олечки, прохрипеть надламывающимся от боли голосом: «Какое хозяйство… и не моё…»…
Назад Василий Иванович возвращался с легким, просветленным чувством. В душе он ощущал такое же состояние торжества и победы над смертью, как и в тот день, будто в самом деле только что вернулся оттуда, из того кромешного ада давнишнего боя. Он смотрел на проносящиеся за окном автобуса березы, будто измазанные легкими акварельными мазками зеленого оттенка, на стремительно уносящиеся назад взгорки и пологие скаты. Ему вдруг начало казаться, что он несется по волнам неведомого зеленого моря, так плавно и быстро перетекали эти взгорки и спады друг в друга…
На конечной станции Василий Иванович, обойдя несколько «бомбил», договорился с одним из них. Ехать в метро ему не хотелось. Да к тому же времени было уже много. Встреча с однополчанами была назначена на одиннадцать часов, к которым явно бы опоздал, отправься он на метро.
Небольшое кафе, в котором когда-то состоялась их первая послевоенная встреча, было для всех них сакральным местом. То ли судьба была к ним благосклонна, то ли место слишком уж было некоммерческим по нынешним временам, но кафе, устояв перед разномастным криминально-бандитским девятым валом приватизации, - «прихватизации», - поправившись, угрюмо усмехнулся Василий Иванович, объясняя водителю, для чего он едет туда, - невероятным образом сохранилось в своем первона-чальном предназначении. И все уцелевшие от войны и времени ребята-однополчане, раз в два-три года, когда удавалось списаться и созвониться, собирались в этом кафе.
Тормознув на знакомой улице, водитель несколько минут потратил на выискивание клочка свободного места среди огромных, дорогих иномарок. Наконец, прижавшись к одной из них, он раздраженно плюнул и сказал:
- Ближе не получиться. Придется, дед, тебе выйти здесь.
Василий Иванович, кряхтя, вылез из машины и недоуменно огляделся. Не закрывая дверцы, он заглянул в салон машины и спросил:
- Это точно тот адрес? Что-то я не узнаю ничего кругом.
Водитель, усталый, средних лет мужчина, хмыкнул и с горькой иронией ответил:
- Это тот адрес, дед. Не удивляйся, тут не только эту улицу, всю Москву перекорежили. Я сам частенько путаюсь в них. А кафешка твоя вон.
Водитель ткнул рукой за спину Василий Ивановича:
– Теперь это ресторан-бар с игровым залом. Вон видишь, вывеску? Это и есть твое бывшее кафе. Ну, бывай, дед! Счастливо тебе повидаться с друзьями.
Василий Иванович стоял и бездумно смотрел на расцвеченные ярким неоном все двадцать квадратных метров фасада. Он читал аляповатую надпись во всю стену и нервно мял пальцами папиросу, которую вытащил еще в машине. Он прекрасно понимал, что теперь в это заведение ему с ребятами путь заказан.
Подойдя ближе, Василий Иванович увидел стоящего у двери охранника. Тот оглядел его с головы до ног, но ничего не сказал, когда старик с палочкой, толкнув дверь, вошел внутрь. От того интерьера, что он помнил, не осталось и следа. С трудом сориентировавшись, Василий Иванович подошел к двери, ведущей в зал. Но едва он взялся за дверную ручку, как откуда-то сбоку мгновенно появился молодой парень, ростом под два метра. Он прикоснулся к руке Василий Ивановича:
- Вы приглашены?
Василий Иванович осторожно спросил:
- Куда?
Охранник смерил его взглядом с высоты своего роста и небрежно обронил:
- Сегодня ресторан посторонних не обслуживает. Зал снят под спецзаказ.
Василий Иванович покачал головой.
- У нас здесь, в этом кафе, встреча однополчан. Мы встречаемся каждые два года…
- У вас был сделан заказ? – оборвал его охранник. – Я сейчас проверю.
Он включил рацию и сказал:
- Тут один дед говорит, что у них назначена встреча с однополчанами…
Выслушав что-то, охранник, уперев взгляд куда-то, поверх головы Василий Ивановича, сухо сказал:
- На сегодня никаких других заявок на обслуживание в администрации нет. В другой раз приходите…
Василий Иванович смотрел на высящийся перед ним могучий торс, увенчанный одутловатым шаром головы и, гася в себе тихую ярость, четко произнес:
- Я буду ждать своих товарищей здесь и никуда не уйду.
Он слышал гул, возбужденные выкрики и хохот, доносящийся из-за закрытой двери, и это только его подтолкнуло к резкой и жесткой фразе:
- Я так понимаю, что теперь перед простым мужиком везде дверь закрыта… Что, так все там забито, что три-четыре места для инвалидов войны не найдется?
- Не знаю, мое дело маленькое…
Охранник скосил глаза на ордена и добавил:
- Идите в администрацию. Может, что-нибудь и устроят.
Но Иван Васильевич не успел ничего сказать, как дверь из зала открылась, и из него вышел поджарый, немолодой мужчина с довольным и сытым лицом. Иван Васильевич заметил в этом лице еще что-то, что было бы для другого места весьма характерными и примечательными чертами типичного пахана. Мужчина, довольно цыкнув, неспешно прошел мимо Василий Иванович и скрылся на противоположной стороне холла за дверью туалета.
- Понятно, кто у вас здесь пирует… - с едкой усмешкой проронил Иван Васильевич. – Эти хорошо платят. Всем навара хватит, - не то, что с нас, инвалидов.
- Ну, что тут у вас? – с сытой вальяжностью раздался голос из-за спины Василий Иванович. Он обернулся и увидел стоящего около них того самого «пахана». Охранник снисходительно кивнул на Василий Иванович:
- Да вот, компания дедов хочет прорваться в зал. Этот говорит, что у них тут была запланирована встреча. Аж два года назад! Ха! Выдумают же такое! Им бы по теплым местам отлеживаться, а не путаться под ногами у людей!..
- Ну чего! Дело хорошее, собраться с корешами! Это благородно! Говоришь, мужик, тут у вас сходняк намечается?
Иван Васильевич угрюмо взглянул на стоящую рядом двухметровую обломину-охранника и желчно сказал:
- Верно, хотели свидеться однополчане, да кто ж знал, что это кафе под «малину» переделали.
- Ну, мужик, не бухти! Для заслуженных людей всегда хорошее местечко найдется. Пошли! Организуем для твоих однополчан столик. В обиде не будете! Пошли, пошли, - нажал мужчина на Василий Ивановича. – Ты, вот что, - сказал он охраннику, - будут тут приходить… ветераны, ты их проводи в зал. Я разрешаю.
Иван Васильевич не стал отказываться от приглашения. В конце концов, не к «этому» в дом он пришел. А с ребятами в любом случае надо увидеться. Кто знает, будет ли следующий раз?..
Зал гудел от разноголосицы подвыпивших людей. Иван Васильевич, не особо их разглядывая, все же приметил, что среди разношерстной публики было много крепких молодых людей, подвизгивающих ярко раскрашенных девиц и степенных, с выражением значимости на лице, официозно выглядевших господ. «Странное сборище… Проститутки, братки и чиновничий сброд…», - промелькнуло у него. - «Чего их вместе собрало?..»…
- Ну, что, дед, прошу за стол, - с властными нотками в голосе, не привыкшего к отказам человека, сказал его благодетель. - Пока твои не собрались, посиди с нами. Потом и твоих определим.
Он ткнул сидевшего перед ним парня, и когда тот вскочил, распорядился:
- Так, приборы и закуску принеси. Сам сядешь там. Ну, мухой туда-сюда!
Парень с готовностью сорвался с места. Иван Васильевич неодобрительно качнул головой:
- Может, не стоило так. Я прекрасно устроился бы вон там, в углу.
- Ну-ну, не надо скромничать! – усмехнулся «пахан». – Мы должны уважать защитников трудовой вертухайской державы! – уже в голос проговорил он. – Кто, как не вы, проливали кровь, чтобы мы, вот сейчас, могли жить как люди! Я правильно говорю, братва?
Ближайшие к ним люди одобрительно загудели. «Пахан», быстро пройдя к себе на место, поднял рюмку и громко сказал:
- Тихо, одну минуту. Вот человек, - он показал на Василий Иванович, - который получил от той страны кучу… - «пахан» скривился в саркастической усмешке, - скажем, наград. Тогда умели совмещать полезное с приятным. Те, которые стояли у власти, полезное брали себе, а приятными цацками затыкали этим несчастным их рты. Вот это был гигантский лохотрон! Так выпьем за то, чтобы с пользой разводить лохов, а не быть ими!
Иван Васильевич не совсем понял то, что говорил «этот», видимо действительно имеющий значительный вес среди собравшихся за столом. Когда он начал говорить, все притихли, и конец его тоста встретили шумными аплодисментами и выкриками. Сидевший рядом парень, лет тридцати, осмотрел пиджак Василий Иванович и, отрыгнув, восхищенно покачал головой:
- Классный иконостасец! Чё, реально все твое?
- Мое, - коротко ответил Иван Васильевич.
- За это принять надо!
Парень ходко отправил в рот приличную порцию коньяка из фужера и с силой прогнав через зубы воздух, впился ими в кусок бутерброда с икрой. Все так же, не отрывая взгляда от наград, он, что-то пьяно соображая, спросил:
- Дед, куда тебе столько клипс?! Тяжело таскать клифт, наверно? Отстегни одну… Я тебе отвалю бабла… сколько скажешь… Вот эту, красненькую… звездочку.
Иван Васильевич, уже сообразив, куда он попал, и в какой компании находиться, решил, что с этим, изрядно набравшимся соседом, лучше не ввязываться в разговор. Он осторожно, стараясь подавить в голосе неприязненные интонации, как можно дружелюбнее ответил:
- Извини, парень, этот орден мне очень дорог. Это мой первый орден. Парень издал несколько бессвязных звуков и шмыгнул носом:
- Во, дед, - он поднял палец. – Я сразу усек качественную вещь! За что, если еще не забыл, тебе ее отвалили?
- Не забыл… - Иван Васильевич не удержался от пары едких слов. – Да уж не за стакан водки с бутербродом… Такое не забывается… Много ребят, и помоложе, чем ты, легли в бою за эти Старые Роздыхи…
И как бы тихо не прозвучали его слова в общем гуле, сидевший через три места от Василий Иванович «пахан» вдруг застыл с каменным выражением лица. Вилка в его руке дрогнула и, звякнув об тарелку, выпала из рук. Несколько секунд «пахан» смотрел, не отрываясь от лица Василий Ивановича. Потом хрипло, сглотнув перед этим перекрывший ему горло комок, спросил:
- Что… как ты сказал!? Повтори!..
Василий Иванович недоуменно приподнял брови и переспросил:
- Что повторить?
- Ты сейчас назвал что-то… - судорожно сжал пальцы «пахан». – Ну, название какое-то…
Василий Иванович понял, что от него требует этот человек. Он видел его застекленевшие глаза, побелевшие крылья носа и, не понимая, что привело «пахана» в такое состояние, четко выговорил:
- Я сказал - «Старые Роздыхи»… Село было такое. За бой за него я получил вот этот орден.
Мужчина, едва услышав название, с силой сжал веки, и на его скулах круто обозначились желваки.
- Не может быть… - Мужчина всей пятерней забрал лицо, провел ею вниз и, тряхнув головой, словно приходя в себя от удара, резко встал:
- Слушай, дед!.. Пойдем, отойдем в сторону… Надо поговорить.
Василий Иванович, как и все сидящие рядом, были поражены такой метаморфозой. Он встал, аккуратно отодвинув стул. Едва поспевая за широкой спиной мужчины, он пересек весь зал и оказался в маленькой комнатке. Мужчина закрыл дверь и, смотря на Василия Ивановича с каким-то недоверчивым, настороженным изумлением, сказал:
- Садись… лейтенант… Разговор есть…
Иван Васильевич, наклонив голову, с интересом вгляделся в мужчину:
- Мы что, знакомы? Не припоминаю, чтобы у меня были знакомые вашего возраста, знавшие меня лейтенантом.
- А ты, лейтенант, припомни, припомни… Может, вспомнишь, откуда у тебя вот тут, - и он показал на своем лице место около мочки уха, - отметина…
Мужчина впился взглядом в недоумевающее лицо Ивана Васильевича, словно гипнотизировал этого старого, усталого человека, пытаясь раздвинуть перед ним завесу времени…
- Вась, тебя комиссар к себе требует… - просунув голову в дверь, с серьезной миной на лице на одном дыхании выдал розовощекий, кудрявый Аркаша Белов.
- Зачем? – недовольно пробурчал Василий, откладывая бритву. Его намыленная физиономия выражала неподдельное неудовольствие. Оно теперь часто не сходило с его лица, после того, как его перевели на должность замполита батальона, присвоив звание старшего лейтенанта. Аркаша Белов, только что произведенный в лейтенанты, получил под свое начало взвод Ивана, чем был очень доволен.
- Да там, кажется, по полицайскому делу. Срочно иди, комиссар сказал, что ему в штаб полка через двадцать минут отбыть надо. Если что, из сортира тебя вытащить! Вот так!
Подходя к избе, где расположился штаб полка, Василий еще издалека увидел густую толпу деревенских мужиков и баб. Их возбужденные голоса сливались в один непрерывный угрожающий крик. Потрясая кулаками, они грозили кому-то, требуя немедленной расправы. Протолкавшись в избу, через солдат, охранявших вход, Василий из сеней, прошел в полутемную, с низким потолком комнату. Он увидел горящую керосиновую лампу на столе, огонек лампадки в дальнем углу и несколько фигур.
Одна из них была коренастым мужиком в кепке, неопределенного темного цвета пиджаке, который стоял перед столом, за которым расположились комиссар полка Карпов и начштаба полка с каким-то майором. Рядом с майором лежала фуражка с малиновым околышем.
- А, Малышев! Иди, садись! Ну, что ж, товарищи офицеры… Я открою заседание военного трибунала…
Комиссар взял лист бумаги, и начал читать:
- Мы, члены военного трибунала, в составе комиссара полка капитана Карпова, начштаба полка майора Громова, замначальника особого отдела полка капитана Толмачева и замполита роты, старшего лейтенанта Малышева, проведя следствие по выяснению деятельности Мишина Григория Петровича, постановили: за пособничество фашистским захватчикам и сотрудничество с ними в качестве полицая, выяснив по опросам свидетелей его особо жестокое, изуверское отношение к населению, а также участие в расстреле пленных красноармейцев и партизан, приговорить Мишина Григория Петровича, учитывая условия фронтовой зоны и военного времени, к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор привести в исполнение немедленно.
Комиссар положил бумагу на стол и спросил:
- У кого есть особое мнение?
Выждав некоторое время, Карпов оглядел сидевших за столом и, откашлявшись, произнес:
- Прошу тогда проголосовать за решение трибунала. Кто за – поднимите руки. Иван, хотя и не участвовал ни в следствии, ни в составлении решения трибунала, недоумевая, зачем в таком случае он присутствует здесь, все же поднял руку, так как того, что огласил комиссар, и половины хватило бы для высшей меры.
Но его недоумение по поводу своего присутствия здесь комиссар разрешил быстро:
- Малышев, возьмешь отделение и приведешь приговор в исполнение. Жителей на казнь не допускать. Всякое может быть. Люди просто озверели. Могут порвать этого полицая голыми руками. Как только они разойдутся, выведешь арестованного на задний двор. Там и закончишь.
Все ясно? Я пойду, поговорю с народом…
В окно Иван видел, как через несколько минут, обступившие крыльцо люди, постепенно успокаиваясь, начали расходиться. Караульный, проводив последних, закрыл ворота на щеколду и, зевнув, не торопясь, вытащил кисет.
Иван, при виде закурившего солдата, явственно ощутил на языке терпкий вкус табака. Вытащив папиросу, он торопливо чиркнул зажигалкой и затянулся. Приказ комиссара, каков бы он ни был по своей сути, породил у Малышева противное чувство пустоты где-то под ложечкой.
«И почему это все сходится на мне!?», - с раздраженным недоумением подумал Иван. – «Что, для этого спецкоманды, что ли нет?».
Вошедший Карпов, подошел к столу и, взяв лист бумаги с решением трибунала, протянул его Малышеву.
- Возьми, зачитаешь перед расстрелом. Иди, готовь отделение… Потом, как все закончишь, тело погрузишь на полуторку и отвезешь километра за три за деревню. Там захороните…
- Товарищ комиссар, разрешите вопрос. Почему мы, а не расстрельная команда?
Комиссар помолчал, усмехнулся и, чуть помедлив, коротко сказал:
- Так надо.
Когда Иван вышел из хаты, на дворе уже густо моросил мелкий, плотный осенний дождь. Подняв воротник шинели, он поспешил в расположение роты и через полчаса, ведя за собой отделение, подходил к той же хате, во дворе которой, в сарае, содержался арестованный полицай. Но перед тем как зайти во двор, он увидел неподалеку, у забора, две фигуры – женщины и прижавшегося к ней мальчишки, лет десяти-двенадцати. Они молча стояли под дождем, не пытаясь укрыться от него. Женщина смотрела на приближавшегося Малышева, на солдат и только судорожно прижимала ко рту крепко сжатые кулаки, словно боясь, что не удержит в себе рвущийся наружу крик…
Малышев догадался, кто эта женщина и поспешил пройти мимо. Но женщина и мальчик, как будто перед ним были ожившие деревянные языческие идолы, не сделали ни малейшего движения.Малышев только чувствовал их прожигающий его спину взгляд.
Торопясь поскорее закончить муторную процедуру, Иван распорядился поставить полицая тут же, у стены сарая. Когда его вывели, полицай стащил кепку с головы и запрокинул голову. Дождь оросил его бледное, заросшее густой щетиной лицо. Солдат, выведший его, ткнул мужика в спину и злобно сказал:
- Ну, падла, ишь загляделся! Скоро сам там будешь! Иди, иди, холуй фашистский!..
Василий, смотря на солдат, которые ставили полицая около стены, завязывали ему глаза и с тягостным нетерпением «скорее бы кончить», только приготовился читать решение трибунала, как краем глаза уловил движение. От забора на дальней стороне двора, туда, где стоял полицай метнулась маленькая фигурка. С криком «папка… папка…», к сараю бежал мальчишка. Иван узнал в нем того самого, который стоял с женщиной у забора. Никто из стоявших солдат не успел опомниться, как мальчик подбежал к мужчине. Вцепившись в него, он, плача навзрыд, продолжал кричать: «Папка, миленький… родненький… уйдем отсюда, уйдем...!». Мужчина, ничего не говоря, рухнул на колени, как подкошенный. Он гладил сына сотрясаемой крупной судорожной дрожью рукой по голове и только мычал, не в силах произнести ни слова.
Когда их начали отрывать друг от друга, двое дюжих солдат из расстрельной команды несколько минут не могли разъединить эти два, слившихся в одно, тела. Мужчина, обхватив сына мертвой хваткой, с утробным звуком, как будто выжимая его из себя, впился губами в лоб сына.
- Да придуши ты его, чего цацкаться с этими отродьями! – заорал кто-то из оставшихся в строю. Малышев не успел ничего сказать, как один из двоих солдат, размахнувшись, опустил приклад на голову полицая. Тот обмяк, и, завалившись на бок, увлек за собой сына, кричавшего от ужаса тонким, пронзительным голосом.
- Да ты что, с ума сошел! – в бешенстве заорал Василий. – Что с ним теперь делать!?
- Ничего, товарищ старший лейтенант, сейчас очухается! – отозвался другой, отдирая мальчишку от неподвижно распростертого тела отца. Перехватив его подмышкой, красноармеец пошел к забору. Привстав на стоявшее деревянное корыто, он перевалил мальчишку через забор и опустил по другую его сторону. Иван видел сквозь редкие просветы между досками маленькую темную фигурку, бессильно осевшую на землю.
- Что, так и будем стрелять евонного папашу у парня на глазах? – с мрачными нотками в голосе спросил кто-то.
- Ну и что? – тут же ответили ему. – А то этот ирод не стрелял наших на глазах у всех деревенских! Переживет…
Малышев с тоской подумал: «Что это за мурыжня сплошная сегодня…», - и, обрывая дальнейшие разговоры, отдал приказ:
- Все, отставить разговоры! Крутиков, Бирюков, - ставьте полицая, отделению приготовиться…
…Мальчишка, прижавшись к забору, будто окаменев, смотрел сквозь щели на солдат, припавших к винтовкам, на офицера, готового отдать свой страшный приказ. И в самый последний миг он услышал, как отец, подняв голову с белой тряпкой на глазах к небу, издал крик, какого мальчик никогда в жизни еще не слышал от него: «Сынок!.. Помни!.. Отомсти за меня! Мать береги!..».
Он зажал уши ладонями, чтобы не слышать залп, оборвавший обжигающий сердце голос отца. Потом он увидел, как двое солдат, взяв недвижное тело отца за руки и за ноги, потащили к стоявшему во дворе у ворот грузовику. Раскачав, они забросили тело в открытый кузов и трое из них залезли туда же. Офицер, что-то сказав, сел в кабину, и грузовик медленно выехал через отворенные ворота на улицу.
Мальчишка сорвался с места. Путаясь в высокой траве, растущей вдоль забора, он помчался к дороге, наперерез машине. Грузовик, скользя юзом на глубоких, разбитых танками колеях, выворачивал на ровное место. Он увидел, что за грузовиком, едва поспевая, скользя, падая на осклизлых комьях изрытой вдоль и поперек дороги, бежала его мать. Она бежала за машиной сколько могла. Сын уже давно отстал. Он видел, как мать, споткнувшись, упала в разбитую, полную грязной жижи колею и осталась стоять на коленях. И еще долго ее истошные, надсадные причитания неслись вслед уезжавшему грузовику.
Ночью, глядя в темноту сухими, жесткими глазами, он слушал приглушенный плач матери и в его ушах до сих пор стоял надрывно-заклинающий крик отца: «Отомсти…». Стоило ему закрыть глаза, как перед ним, жгущей мозг картиной, возникало безвольно обмякшее у стены сарая тело отца. Мальчишка вскакивал в жаркой испарине, давясь стуком собственного сердца.
За окном еще даже не угадывался рассвет, как он, приподнявшись на лавке, оглядел комнату. Мать, приткнувшись в углу кровати, на которой спала его трехлетняя сестра, в свете лампадки казалась ему темной, плоской тенью. Одевшись, мальчишка бесшумно выскользнул за дверь. Пробираясь в темноте двора, он оказался через минуту в дальнем его углу. Не обращая внимания на резкие порывы, пропитанного моросящим дождем ветра, мальчишка отбросил наваленные друг на друга куски глины с обломками досок и мусора. Разбросав их, он вытащил из-под большого куска кровельного железа длинный, завернутый в брезент предмет.
Кое-как прикрыв его полой пальто, оглядевшись, он скользнул в дровяной сарай и торопливо развернул брезент. В его руках оказалась винтовка. Мальчишка тщательно протер ее, передернул затвор и, присев около дощатой стены, затих в ожидании рассвета. Вскоре его чуткую полудрему потревожили звуки заводящихся моторов, голоса солдат и особый, ставший уже привычным далекий, слитный гул орудийных залпов.
Мальчишка приник к щели. Ему хорошо было видно, как из избы напротив выходили солдаты, снимали гимнастерки и, поливая друг друга водой из ведра, весело потешались над пропустившим особо щедрую ее порцию. Мальчишка встал, просунул в щель ствол винтовки и подпер ее снизу доской. Винтовка была тяжела для него, и он боялся в самый ответственный момент не удержать ее. Он ждал только одного человека, - офицера, по чьему приказу был убит его отец. Он понимал, что застрелили отца солдаты, но почему-то хотел, чтобы за его смерть ответил командир. Он приказал, а они исполнили…
Офицер вышел чуть спустя. Несмотря на ветреную погоду, он бодро стащил с себя белую нательную рубаху и что-то сказал стоявшему рядом здоровенному солдату. Тот поднял ведро и осторожно стал лить на шею и подставленные ладони тонкую струйку воды.
Мальчишка терпеливо ждал. От напряжения и долгого ожидания у него заслезились глаза, и мальчик несколько раз моргнул. И тут же снова испуганно припал к прицелу. Через прорез мушки он хорошо видел широкую спину офицера и ждал, когда тот закончит умывание. Мальчишка хотел выстрелить ему в голову и потому с прежним терпением выжидал удобного момента.
Наконец офицер закончил плескаться и выпрямился. Взяв у солдата полотенце, он стал широкими махами крепко и энергично растираться. И только он закончил обтирание, едва взял у солдата свою рубаху, как у него сработала привычная реакция на близкий выстрел. Схватившись за щеку, офицер мгновенно растянулся на мокрой, грязной земле. Стоявший рядом солдат ни на миг не отстал от него.
Мальчишка не стал ждать, пока кто-то прибежит за ним. Отдача от выстрела отбросила его от стенки сарая. Не подбирая винтовку, он, запинаясь о разбросанные поленья, выскочил из дровяника. Но его заметили. Здоровенный солдат уже мчался к нему. Мальчишка не успел подсочить к дыре в заборе, как затрепыхался в мощной лапе солдата.
- Вот он, этот змееныш, товарищ старший лейтенант, - подходя к Ивану, сказал Лагутин.
Малышев смотрел на мальчишку, неподвижно висящего в могучем, размером с голову этого подростка, кулаке Степана. Прижимая кусок тряпки к щеке, куда вонзилась выбитая пулей щепка из венца бревна, Иван видел его неподвижный, пронзающий холодной ненавистью, взгляд.
- Чего с ним делать?! – спросил Лагутин, все еще держа на весу мальчишку. – Доложить бы надо…
- Не знаю! - в замешательстве рассеянно отозвался Малышев. – Через полчаса снимаемся. Кому, чего докладывать!? Вот что, запри его в чулане и разыщи его мамашу. Кажется, они живут напротив. Приведи ее сюда. Давай, действуй…
Пока медсестра Олечка обрабатывала его рану, Малышев решил про себя не доводить до начальства это происшествие. Мальчишке и десяти, наверно, нет. Хватит того, что припугнуть как следует его мамашу, чтоб держала его под замком, пока они не уйдут…
Мать стремительно ворвалась в избу, с белым, как мел, лицом, крича высоким, надломленным голосом: «Мало вам его отца, так стреляйте нас всех!..».
- Тихо, гражданочка, молчать! – выставил вперед руку Иван. – Никто никого стрелять не собирается! Ты чего ей там наговорил? - спросил он вошедшего следом Степана.
- Ничего не говорил, только сказал, что ее пащенок стрелял в нашего лейтенанта и с рук ей это так не сойдет. Все под трибунал пойдут. Я так, для острастки!
- Понятно. Вы, гражданочка, вот что, вашего сына мы отпускаем, но заприте его дома от греха подальше, чтобы он не вытворил такое же еще. Вы меня поняли!?
Мать, устремив искаженное плачем и страданием лицо на Малышева, торопливо кивала головой, все время повторяя: «Господь вас храни!». Когда Степан привел ее сына, она схватила его и, крепко прижав к себе, стала боком подвигаться к двери…
Через час, когда части, остановившиеся в деревне, стали покидать ее, женщина смотрела в узкий просвет между занавесками на проходивших солдат, колонну машин, оглушительно ревущие танки, сотрясавшие всю избу до основания, и ее рука, которой она клала на себя крестное знамение, ходила ходуном. Другой она прижимала к себе испуганную дочь. Сын стоял рядом и тоже смотрел из-за ее плеча на проходящие войска. Когда улица опустела, мать продолжала смотреть в эту щель, долго не решаясь отдернуть занавески, чтобы впустить в комнату сумрачный осенний свет. Она сидела, уронив бессильно руки на колени. Сын не решался ее побеспокоить.
Наконец, она вздохнула и, сняв платок с головы, отдернула занавески. Свет разогнал в комнате густой полусумрак. Сын, вглядываясь в волосы матери, прикоснулся к ее пряди и удивленно сказал:
- Мам, они у тебя белыми стали…
Женщина непонимающе взглянула на него, потом медленно пере-вела взгляд на плечо, где лежала прядь волос и несколько мгновений рассматривала ее. Они были словно осыпаны белесовато-серым пеплом, как будто черная смоль ее волос в один миг сгорела в жарком пламени горести и страданий. Мать опустила голову, потом взглянула на сына спокойным, отрешенным взором и тихо сказала:
- Ничего… пусть…
И когда вся их изба стала заполняться дымом и запахом горящего дерева, она поняла, что в чашу их страданий упали первые камни нескончаемой беды. Изба горела быстро и жарко. Женщина, успев собрать лишь какие-то тряпки, стояла поодаль догорающей избы, держа за руки своих детей. Она знала, что их подожгли деревенские, желавшие вытравить даже дух ненавистного мучителя. И оставшиеся его жена и дети были им также ненавистны, как и он сам.
Они брели по дороге под свист и улюлюканье деревенских мальчишек, бросавших в них палки и камни, а по сторонам улицы, с отчужденными, суровыми лицами стояли мужчины и женщины. Сестра вдруг заплакала от попавшего в нее камня. Мать прижала ее к себе, прикрыв полуобгоревшей тряпкой, что-то едва слышно шепча. Мальчишка шел рядом, глядя вперед сухими, жесткими глазами…
Мужчина, закончив говорить, стряхнул пепел с сигареты заметно дрожавшими пальцами и сказал:
- Вот так, лейтенант, в тот день ты сломал мою судьбу навсегда…
Василий Иванович, не поднимая головы, некоторое время молчал. Потом взглянул на мужчину:
- Ты, конечно, винишь в этом меня, тех солдат, которые привели приговор в исполнение? Это хорошо… - Он помолчал немного и повторил: - Это хорошо… Потому что сможешь понять, что даже через столько лет ты еще жив и, как я смотрю, благоденствуешь… А вот те мужчины, женщины и дети, которых расстреливал твой отец уже полвека лежат в могиле… Скажи им о своей обиде!
Мужчина встал, подошел к окну. Потом, не оборачиваясь, сказал:
─ Хорошо, что я тогда не убил тебя! Мы с тобой квиты! Мне достаточно знать, что ты промучился всю свою жизнь в нищете со своей культяпкой. Бог отомстил за меня!
- Бог? – усмехнулся Василий Иванович. – Твой бог - это нажива и презрение к человеку. Твой бог – дьявол, потому что это время, какое наступило сейчас, может сотворить только человеконенавистник. Убей другого, а сам живи – вот ваше знамя!
- Ваши боги, которые жили на земле, - плешивая картавая сука, рябой недомерок с его вертухайской сворой и остальные, такие же кровососы, уж точно были дьявольским семенем! – со злым нажимом отпарировал мужчина. – Весь народ на них пахал, а они его же давили, как могли!
- Может, кто и страдал безвинно, не без этого, - почему-то спокойно сказал Василий Иванович. – Но страну, которая им досталась, которую строили веками предки, они сумели сберечь в отличие от ваших главарей, которые в одночасье развалили ее, как чужую клуню. То, что не смог сделать Гитлер, они сделали, даже не поперхнувшись.
Мужчина, дернув головой, едко хмыкнул:
- Да вся ваша победа держалась на пушечном мясе и расстрельных частях НКВД!
- А я так думаю, случись бы сейчас такая же война, то ни в ком не найдется той силы духа, той идеи, которые помогли нам тогда выстоять и победить… – Василий Иванович печально покачал головой. - И никто не сможет меня переубедить! Люди, рвущие друг другу глотки за сраный доллар, обречены на гибель. Я уже стар, и все видел… Мне жаль, что я дожил до этого… позора. Прощай…
Василий Иванович тяжело поднялся и, не глядя на своего собеседника, вышел. Вестибюль был пуст, и только верзила-охранник с подозрительным недоверием смотрел на него. Василий Иванович переждал сжавший его сердце спазм и, откашлявшись, спросил:
- Эй, парень, кто-нибудь из наших пришел?
Охранник отрицательно мотнул головой:
- Никого…
Василий Иванович понял, что никто уже не придет. Прошедший за разговором час времени измотал его. С какой-то опустошенной, безвольной растерянностью, словно нежеланное, но ожидаемое событие все же случилось, он всю дорогу домой отгонял от себя мысли о наступившем для него вселенском одиночестве…
Едва войдя в квартиру, Василий Иванович услышал трезвон телефонного звонка. Пересиливая себя, он взял трубку. Женский голос, печально и устало сказал:
- Вася, это я… Настя… Вася, Игореша умер сегодня ночью. Если сможешь, приезжай… Федор здесь… Алё, Вася, ты слышишь?..
- Да, Настя… слышу. Я отдохну и приеду, непременно приеду… Как только смогу.
Он положил трубку. Болело сердце, где-то далеко, будто находилось не у него в груди, а там, на том поле, усеянном телами погибших ребят, солдат-однополчан. Василий Иванович отчетливо вдруг понял, что болеть его сердцу осталось совсем недолго, и будет скорой и легкой дорога к ним, его ребятам, уложив прошедшие полвека разлуки в единый миг их такой долгожданной встречи…
Балконная дверь, подталкиваемая сквозняком, исходила тоскливым ноем, словно плачем неведомого существа. Она скрипела нудно и без остановок, будто тяжкая эта работа была ей не по силам, и она могла лишь только жаловаться на нее своим богам тягучими, стонущими молитвами.
Сквозняк, ее безжалостный повелитель, даже не замечая этих стенаний, по–хозяйски врывался в комнату и, не задержанный ничем, беспрепятственно уходил в окно на противоположной стене. По пути он сметал все, что было в его силах переворошить, сдвинуть или сдуть, как он сделал с окурками и пеплом со стола. Они лежали на полу как маленькие издохшие червячки, а пепел, перекатываясь легкими волнами, засыпал щели рассохшегося паркета.
Пепла и окурков было много: на полу и на столе, где смешались с остатками еды, лежали, раздавленные в грязной тарелке и заткнутые в бутылочные пробки; были даже в стакане с разводами засохшей «краснухи» на стенках. Судя по тому, что стакан был один, застолье было сотворено одним человеком и длилось долго, всю ночь и только утром было прервано. Две недопитые бутылки стояли у дивана, на котором спал одетый мужчина. Его продранные на пятках носки скатались вниз, полузастегнутая рубашка сбилась под свесившуюся с дивана руку. Мужчина лежал на спине, головой на диванном валике, истертом до поролона. Спал он тяжело и беспокойно. Борода его вздрагивала каждый раз, когда ему случалось захрапеть сильнее обычного и после этого полувсхлип или стоны с невнятными словами прерывали храп. Полуденное солнце освещало только этот угол, и потому легкий полумрак скрывал почти всю остальную часть пустой, огромной комнаты. В дальнем углу было что–то свалено в большую кучу, рядом на стене, на вбитых гвоздях мятой грудой висели какие–то вещи. Стол и диван были единственной мебелью, если не считать лежащий на боку у стола пустой пластмассовый ящик из–под бутылок.
Пробившийся между пыльными стеклами окна, солнечный луч, наконец, дотянулся и до лица мужчины. На какой–то миг показалось, что луч света перенес блестевшую меж оконных рам густую сетку паутины, и она обилием серебряных нитей запуталась в каштановом буйстве бороды и усов спящего…
И если бы не эта густая седина, ни заострившийся нос со следами очков на тонкой, изящной переносице, ни темные провалы теней под нервным изломом бровей, слившиеся с впалыми щеками, отчеркнутых бескровным разрезом губ, ему можно было бы дать лет тридцать восемь – сорок, но изможденность и худоба делали мужчину стариком. Во сне он, поперхнувшись, закашлял, и кашлял долго, не просыпаясь, во всяком случае, не открывая глаз. Вскоре рука его дрогнула, и он ребром ладони стал растирать грудь. Лицо его болезненно исказилось. Натужно кашляя, мужчина медленно, с трудом опираясь на руку, поднялся. Минуты через две ему стало легче. Тяжело дыша, концом рубашки он вытер выступившие слезы и испарину.
Пошарив сбоку, он достал сигаретную пачку и долго рылся в ней непослушными, дрожащими пальцами. Не найдя сигареты он бессильно выругался: «Пидора гнусная!..» и отбросил ее в сторону. С натужным стоном мужчина встал и, захватив бутылку, шагнул к столу. Совершив столь затруднительный вояж, он, опускаясь на ящик, пошатнулся и сел бы мимо, если бы не ухватился за край стола. С превеликим трудом мужчина сохранил равновесие, что стоило ему нескольких минут передышки, во время которой он мутным взглядом блуждал по столу. Наконец, найдя то, что искал, мужчина одной рукой потянулся за интересующим его предметом (это был «бычок» более или менее в целом виде), а другой поднес бутылку к губам, пытаясь сделать несколько глотков. Вино пролилось ему на рубашку и штаны, а окурок остался лежать там, где лежал. И тот и другой результат привели его в тихое озлобление. Мужчина пробормотал невнятные угрозы кому–то, видимо, ответственному за столь неудачные действия и снова приступил к манипуляциям.
На этот раз он не стал подвергать себя такому, чреватому неприятностями, совмещению действий. Предварительно отхлебнув из бутылки, мужчина торжествующе ухмыльнулся и сказал: «Э–э–эх, и все… теперь ты…». Это уже относилось к «бычку», за которым он полез, локтем размазывая по столу кусок недоеденного зельца. Ему долго не удавалось закурить. Спички ломались еще в коробке, и через пару минут, мужчина, вконец озлившись, высыпал их на стол и зажег одну из них, только после того, как прижал коробок к столу.
Последнее солнечное пятно, скользя по затертым обоям, неотвратимо таяло, унося с собой остатки живого тепла, ибо все в этом пространстве комнаты было покрыто неуловимым, но явственным налетом отжившего. Мужчина сидел неподвиж-но. Он казался не одушевленнее предметов, в соседстве с которыми был более предметом, чем они сами. Медленно струившийся дымок рваными, полупрозрачными перьями поднимался вверх, вытекая из зажатого в пальцах окурка. Попадая в полосу света, струйки вспыхивали скромной радугой и, уплывая вверх, уносили с собой свою нечаянную, затейливую игру.
Мужчина, попрежнему уткнувшись невидящим взглядом в освещенный кусок стены, машинально затягивался, пока окурок, догорев, не обжег ему пальцы. Он ткнул окурком в банку с надписью «Паштет шпротный» и опять потянул из бутылки, на этот раз все оставшееся до дна.
Отдышавшись, он снова вытер лицо рубашкой. И хотя «колотун» оставил его, состояние сквернейшего похмелья не давало возможности ни думать, ни шевелиться. Только промелькнуло: «Жарко…». Ему не хватало воздуха. Мужчина поднял голову. Дверь на балкон захлопнулась, и он снова подумал: «Я выйду…».
Встать сейчас удалось гораздо легче. Ему показалось, что, выйдя на балкон и вдохнув свежего воздуха, он придет в себя, и ему станет намного лучше. Это его подстегнуло. Оттолкнувшись от стола, мужчина сделал несколько широких, торопливых шагов. Открыв дверь балкона, он прислонился к косяку и стал жадно хватать ртом воздух.
Каменный мешок двора, на дне которого росло несколько чахлых тополей, дохнул на него затхлой, прелой сыростью. Душное, багровое марево плотной пробкой закупорило небо. Солнце, задавленное толщей черных, будто налитыми свинцом, пластами грозовых облаков, под их спудом, казалось, тоже задыхается от зноя. Он обливался потом. Мужчина отодвинулся от косяка двери. Что–то тревожное, беспрестанно просившееся из каких–то уголков подсознания, заставляло его двигаться, что–то предпринимать. «Тяжело… тяжело…, еще, чего доброго, недотяну…». Он поспешно, насколько ему позволяло его сумеречное состояние, подошел к углу, где была навалена куча тряпья, и лихорадочно стал ее разбрасывать. Под ней оказался старенький «Goldstar».
Мужчина суетливо, не попадая в розетку вилкой и потом на клавишу выключателя, включил телевизор и тотчас же, боком, не вставая, пополз к дивану. Взобравшись на него, он в изнеможении перевернулся на спину. И сразу же забылся полусном, полудремой… Его разбудил звук работающего телевизора. Мужчина открыл глаза и, придя в себя, повернул голову. На экране в строгом, торжественном порядке сидели музыканты. Дирижер, взмахами рук показался ему большой, черной птицей, которая почему-то не может взлететь, выбиваясь из сил, изнемогая от ужаса при виде многих, направленных на нее стрел–смычков и отверстых ревущих, медных глоток.
Это навязчивое видение продолжалось долго. Оно его пугало и раздражало. У него не доставало сил встать и выключить этот кошмар. Мужчина тихо лежал, думая только о том, чтобы те, кто был на экране, не ворвались в его комнату. Он отвернулся, но тотчас же звуки стихли. Наступившая внезапно тишина отозвалась ему гулким стуком сердца. Вслед за этим, комнату наполнили голоса. Мужчина повернулся всем телом на бок, но навалившееся головокружение заставило его сесть. Он потянулся за бутылкой, стоявшей около дивана, думая: «Глотну… пройдет…». Выпив, он сморщился: подступившая тошнота рвалась наружу, и это не дало ему лечь снова. Пришлось встать и идти в коридор, где был туалет. Через некоторое время мужчина показался в комнате с мокрыми волосами. Тяжелое дыхание и налитые кровью глаза говорили о том, что пребывание там стоило ему больших усилий. И хотя, судя по всему, ему стало легче, видно было, что дурнота делает невообразимо трудным каждое его движение. Мужчина скосил глаза на экран телевизора. Тот, вильнув куда–то в сторону, через некоторое время вернулся на свое место, но странным образом остался стоять набекрень. Чтобы разглядеть что–либо происходившее на нем, мужчине пришлось наклонить голову. Долго он так не смог стоять. Из–под него, угрожая опрокинуться всем своим скарбом, вдруг поехал пол вместе со стоящими на нем столом, диваном, ящикам из–под посуды.
Мужчина поспешно выпрямился, испугавшись, что со стола свалятся бутылки, а их нужно было сдать. Кроме того, будет много битого стекла. «Скверно…» – подумал он и вслед за этой мыслью пришла другая: «Неплохо бы выключить этого подлеца…». Тем более что на экране опять металась большая испуганная птица–дирижер, отбиваясь от извергавшегося на него потока звуков.
Но все осталось только в мыслях, потому что все внимание его приковало к себе расстояние до дивана и стоявшая около него бутылка. Когда же он снова очутился на диване и выпил вина, торопясь, взахлеб, боясь повторения предыдущего исхода, то к нему вдруг вернулось блаженное состояние умиротворенности, и по его заросшей щеке покатилась слеза облегчения. Через мгновение мужчина опять забылся сном, и опять его мучали кошмары, в которых высоко в небе черной птицей летал свободный дирижер–ворон…
Какой–то толчок изнутри разбудил его. Мужчина очнулся сразу и оглядел комнату. Багровый отсвет из окна заливал ее тревожными предгрозовыми сполохами. Ему захотелось встать, и он это сделал. В его движениях появилась какая–то осмысленность. Хотя и с трудом, явно заставляя себя сделать то, что задумал, мужчина двигался по комнате, сосредоточенно оглядывая ее. Он методично стал ворошить, перебрасывать с места на места валявшиеся предметы то на столе, то на подоконнике, то рылся в груде наваленного у телевизора тряпья, в которой вывернул все карманы, видимо, не находя нужной ему вещи. Несмотря на безрезультатность поисков, мужчина, как это ни странно было видеть, не впадая в раздражение и бормоча: «Серегин, надо ее найти...», упрямо продолжал поиски. Ему попался вскоре потертый футляр от скрипки. Он открыл его. Внутри было пусто, и лишь небольшой квадратик свернутой вдвое бумаги сиротливо приткнулся в углу. Серегин развернул его и разочарованно выронил назад. Листок оказался просроченным, полугодовой давности, залоговым билетом в ломбард.
У дивана он с натужным стоном опустился на колени и засунул руку в щель между ним и полом. От натуги, закрыв глаза, мужчина с минуту оставался так, пока выгребал из–под него мусор, а затем, выдохнув воздух, перевернулся спиной к нему, бессильно уронив руки. По лицу его обильно стекал пот, но он не стал вытирать его. Немного отдышавшись, мужчина повернул голову и увидел рядом с собой, в куче разного мелкого хлама, записную книжку. Он почувствовал ее, когда выгребал из–под дивана.
Усталость сделала свое дело. Мужчина сидел, привалясь к дивану и только слабая улыбка проявила внешне его радость. Он взял в руки записную книжку и уверенно открыл на нужной странице. Там, как закладка, лежал клочок бумаги и он, вглядываясь в него, стал сверять с какой–то записью в книжке и через минуту, облегченно переведя дух, пробормотал: «Правильно, все верно… Значит, дойдет… сегодня… должно быть получено… ».
Серегин вытащил из кармана штанов часы без ремешка и огляделся. Сгустившийся сумрак привел его в недоумение: «Х–хо, всего шесть, а так темно… Дождь… наверно будет…». Это мысль переключила его на иные размышления. Он посмотрел в окно. Было видно, как большущие, тяжелые звери, глухо урча, ползли по небу, собираясь в стаю, чтобы позже, начав свою смертельную схватку, обрушиться вниз осколками ледяной шкуры и потоками шипящей, бесцветной крови.
Серегина это мало трогало. Он все также сидел, прислонясь к дивану. В его руке была зажата записная книжка с клочком бумаги. Взгляд бездумно задержался на экране, где какой–то мужчина давал интервью.
… – Александр Данилович, давно хочу, с начала нашей беседы, задать вам один вопрос. Боюсь, что он покажется нескромным, но в рамках нашей беседы мне он кажется необходимым.
– Даже вот так? – озадаченно усмехнувшись, покрутил головой дирижер. – Ну, если этот вопрос так долго обдумывался, то я могу надеяться, что он не поставит меня в щекотливое положение? Только на этом условии, согласны?
– Вы правы. – Ведущий, полный, приятного вида мужчина с роскошной гривастой копной волос с готовностью кивнул. – Не сомневаюсь, многие телезрители захотели бы узнать об этапах вашего блистательного жизненного пути, вашей карьеры. Но на пустом месте такой путь не построишь. Нужно нечто большее, чем простые способности. Потому я хочу у вас спросить, как вы относитесь к карьере, к таланту? Что это за категории такие в вашем понимании, не в общем смысле, а лично в вашем отношении к этим понятиям, как человека, достигшего значительных высот в творчестве и признания во всем мире?
– Ну что ж, вопрос задан и отвечать придется. – Александр Данилович засмеялся и продолжил: – Собственно говоря, ничего неожиданного в вашем вопросе нет. Мало того, я думаю, он, так или иначе, рано или поздно, встает перед каждым человеком, обряжаясь иногда в совершенно неузнаваемые одежды.
Ну, скажем, это может быть вопрос о месте в жизни, выборе профессии, – престижность ее имеет немаловажное значение. Согласны? Затем, в более зрелые годы стремление к продвижению по службе, к желанию того, чтобы твой труд заметили и оценили по достоинству. Все это, по моему убеждению, в значительной степени определяет это понятие. Но, как и любое емкое определение, оно осложняется многими нюансами. Например, в каждом человеке живет неосознанное желание творчества, будь он слесарь или композитор. И там, где творчество, там существует и уникальность этого вида человеческой деятельности, и там возникает антагонизм между творчеством и не творчеством.
А это, согласитесь, уже личностные отношения и они неизбежно порождают такие же антагонистические вопросы, как-то: талант: – «Я талантлив, мой конкурент нет, так почему же нас ставят на одну доску?». Его визави: «Почему меня не хотят оценивать так же, как это делают с этим человеком? Чем же он лучше меня?!» Карьеру делают на фоне чьего-то аналогичного стремления стать первым, ибо первому достается все. В противостоянии, в конкуренции рождается сам смысл такого явления. Оно проявляется везде, – в спорте, в науке, в политике и, конечно, в искусстве. Отсюда вся коллизия взаимоотношений лидера и его конкурентов...
...Серегин смотрел на экран и постепенно стал понимать, что знает этого человека уже очень давно, так давно, что его слова, скорее даже смысл произносимых дирижером слов осознавались им быстрее, чем они достигали слуха, настолько они были предсказуемы… «Вот ты какой стал… праведник…». Серегин продолжал безучастно смотреть на экран. Ничто не проявляло на его лице движения мысли, но они с каждым словом дирижера становились все жестче, больнее: «…я знал, что ты поднимешься… по головам ходить легче… чем… признать свою бездарность… ты всегда умел в красивой обертке из правильных слов подать на блюде любую мерзость…».
– Я с вами полностью согласен. Но, в каком–то смысле, это несколько общий взгляд. А мне хотелось бы услышать от вас именно ваше мнение, так сказать, приватное, применимое к вам лично, к вашему жизненному успеху?
…Слова приходили к Серегину помимо его желания, будто затхлые зерна, сыпавшиеся из прохудившегося мешка, забытого в дальнем углу амбара, одно за другим. Они тягуче возникали в голове хаотичным набором, лишь едко раздражая какой-то отдельный уголок памяти, но никак не побуждая его к эмоциональному восприятию их смысла. Ему уже было безразлична эта сторона жизни, как бывает это с перегоревшей лампочкой. Она еще цельна по форме, но бесполезна по сути…
– Да, собственно говоря, у меня, в моей карьере ничего экстраординарного не случилось. Все, как у многих моих друзей. Но прежде, чем ответить на ваш вопрос конкретнее, я бы хотел бы уточнить саму суть слова «карьера», так, как я его понимаю, чтобы не было досадных расхождений в его толковании. В понятии «карьера» завязаны многие аспекты отношений между людьми, как отдельных личностей, так и личности и общества. Но всё, в конечном итоге, определяют свойства характера самой личности, так сказать, какой он пробы. Посредственность никогда не сможет смириться с дарованием своего коллеги, его избранностью. Талант же, напротив, часто не замечает негативного отношения к себе, упиваясь своей исключительностью. Но и тот, и другой, культивируя в себе такую односторонность, по моему глубокому убеждению, никогда не смогут достичь истинных вершин мастерства, то есть, сделать успешную карьеру. По большому счету, только тот человек, который сможет совместить в себе в гармоничном единстве талант и волю в его реализации, достигает определенных высот на избранном поприще. Вот, вкратце, применения категории «карьера», правда, в абстрактном изложении…
«Ты обокрал… превратил меня в живого мертвеца… а теперь разглагольствуешь о судьбах и призвании…».
– Простите, Александр Данилович, – настойчиво возразил ведущий, – но я, честно признаться, не совсем улавливаю связь между моим вопросом и вашим выводом! Если можно, то поясните, как вам удалось совместить то, о чем вы только что сказали?
Дирижер ответил не сразу. Сегодня утром принесли телеграмму. Жена еще спала и потому он, увидев, от кого телеграмма, помрачнел. Расписавшись в получении, Александр Данилович спрятал ее в карман и вовремя. Маша не должна была знать о ней. Она, будто почувствовав необходимость своего присутствия, накинув халат, уже входила в прихожую. Александр Данилович отговорился ранним визитом соседа и отправил ее спать. Маша как–то странно поглядела на него, свела брови, будто отгоняя назойливое видение, и ушла. В машине он достал телеграмму и еще прочитал несколько слов, стараясь вникнуть в их путаный смысл: «СЕГОДНЯ Я УЙДУ тчк Я ОТПУСКАЮ ВАС С МИРОМ тчк ПРОШУ ОБ ОДНОМ зпт СКАЖИ ДОЧЕРИ КОГДА ВЫРАСТЕТ КТО ЕЕ НАСТОЯЩИЙ ОТЕЦ тчк ПАВЕЛ»…
– Вообще–то, я всегда был уверен, что все можно объяснить, если только вдуматься в проблему, в поставленный вопрос, но…, сейчас я уже не так самонадеян. Почему вдруг человек, ранее и не помышлявший об экстраординарном поступке, совершает его, или не совершает, когда от него требуется переступить через себя? Как вы думаете? Очень часто условия конкуренции, которая во многом является синонимом карьеры, требуют именно нетривиальных решений, но на это надобны и сила воли, и решимость, и бог знает еще какие качества натуры…
Александр Данилович опустил голову. Перебирая нервно сцепленные пальцы, он затягивал паузу.
«…тебя, наверно, сны иногда мучают… подлость забыть невозможно… ты не через себя переступил, а через мою жизнь… талант украсть ты не смог, ты его утопил…».
Ведущий смотрел на усталое, отрешенное лицо этого рано начавшего седеть человека и думал: «Трудно ему доставалась эта вершина…». Эта мысль навела его на следующий вопрос:
– Александр Данилович, раз уж наш разговор перешел в плоскость, довольно далекую от первоначальной, но, как мне кажется, только на первый взгляд, у меня невольно напрашивается уточнение. Карьера, в то время, когда вы учились, была довольно экзотическим понятием в советском обществе. О ней не принято было говорить, но она, как цель, явно подразумевалась в любой области деятельности. Что вы тогда понимали под этим словом, и как воспринимали конкуренцию, – как стимул, или как чисто бескорыстное самоутверждение?
– Как вам сказать!.. Там, где мы учились, собрались серьезные, я бы сказал, честолюбивые и амбициозные студенты. Мы не мыслили себе жизни без ее первых призов, первых ролей и прикладывали все усилия к достижению цели. Вот тут и сказывалась вся разница между нами. Нам, тогдашним, молодым и дерзким, трудно было принять мысль о том, что талант есть явление исключительное, а все то, что наполняет сам ареал искусства, основная масса безвестных тружеников, подвижников и есть основа этой сферы деятельности, ее тело. Тогда как избранные, – его мозг, что-ли…
Талант, – он, знаете, был для нас понятием несколько абстрактным. Где-то там, вдалеке, может быть, он и имел право на существование вне нас, сугубо вне твоей личности, но рядом, непосредственно около тебя, когда ты до этого слышал всякие там лестные, хвалебные отзывы только в свой адрес, – это было невозможно, неприемлемо. Это звучит немного наивно, но тогда мы не могли принять иное положение вещей.
«…а ты знаешь, правильный мерзавец, как я жил все эти восемь лет без Маши, без дочери… а сейчас моя дочь называет тебя отцом… Ты не поленился… добить меня… обговорить со всеми, а после следить столько лет… Передо мной захлопывались двери одна за другой… ни работы, ни друзей…».
– Может, талант, – это то, что не должно никак объяснять. Просто он есть и с этим надо считаться, – заметил ведущий. – Скажите, трудна ли жизнь одаренного человека, таланта, наконец, гения среди обывателей, коллег, завистников-конкурентов?
Александр Данилович пожал плечами:
– Риторический вопрос… Талант, гений, – это понятия, отложенные до будущего. Только потомки дают справедливую оценку жизни человека. И очень часто бывает, что живущий рядом с ними человек воспринимается окружающими, мягко говоря, неадекватно его будущему статусу гения. И, наоборот, человек, почитавшийся за такового, напрочь забывается через пару месяцев после кончины. Примеров, думаю, каждый сможет припомнить массу.
– Понимаю. Как сказал поэт: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии». Хотелось бы узнать, как это "большое" постигалось вами?
Дирижер вздохнул, помолчал, словно прислушиваясь к чему-то, или на мгновение, вспомнив нечто значительное, о чем можно было говорить только в ответственные моменты жизни. Затем он негромко, будто разговаривая сам с собой, сказал:
– Вы знаете, я заметил, что легче всего пояснять свою мысль на примерах, тем более, если это пример из собственной жизни. У меня был друг, скрипач, как и я. Мы, первокурсники, впервые собравшись вместе, присматривались друг к другу, ревниво отмечая качества, которых не было в нас самих, и делали выводы. Как и у всех в студенческие годы, это были отношения бескомпромиссные, яркие по силе чувства и новизне. Среди нас сразу же выделился один, который производил впечатление дремучего провинциала. Умом он не блистал, да и по-своему, если можно так выразиться, уж слишком был простоват и бесхитростен. Но это то, что касалось его общественного веса в нашей студенческой компании. Что до его музыкальных способностей – все сразу поняли его исключительность. Ему все давалось с невероятной легкостью. То, чему другие отдавали месяцы упорных занятий, он это же выучивал за несколько дней. Любая техника, труднейший прием не представлял для него никаких затруднений. Но была в нем одна, я бы сказал, черта характера, вызывавшая неприязнь. Стоило его попросить показать, как овладеть каким-нибудь техническим приемом, особым качеством звукоизвлечения, он отшучивался, уходил от ответа, объясняя все тем, что он и сам не знает, как это у него получается. При этом он показывал куда–то за спину и говорил: «…кто-то там мне помогает…». Странно, но мы с ним тогда сошлись, и многим наша дружба казалась непонятным симбиозом двух взаимоисключающих натур. Мне всегда было свойственна некоторая склонность к размышлениям, он же был, как бы это сказать… Он был дитя природы и жил шутя, не задумываясь, как растет цветок. В наше время такое отношение к жизни непозволительная роскошь. Мы жили в одной комнате, занимаясь в классе у одного профессора. Наши разговоры практически всегда сводились к спорам о трактовке исполнения произведений. Мы оба были фанатами музыки и своего дела. Он часто прислушивался к моему мнению, соглашался, но как только дело доходило до практики, его исполнение не носило и следа его согласия со мной. Сейчас я понимаю, что он мог бы и принять мою трактовку, но то, что сидело в нем, было сильнее всяких теоретических рассуждений.
«Ты всегда любил обтираться рядом…, что, как, покажи… Теперь я понял, чего ты искал… удобного случая…Господи, как я был наивен… не знать прописную истину про сыр в мышеловке… Недешево обошлись ему мои веселые денечки… ».
– Хм! И все же, если учесть что такие данные могли стать отличной стартовой площадкой для блистательной карьеры! И как же, он смог ими распорядиться себе во благо?
Дирижер снова помедлил с ответом, как-будто каждый из них обязывал его к тяжелому и трудному решению. Он усмехнулся и продолжил:
– Не все так просто, как кажется… Понимаете, в чем штука, – ваше уточнение вскрыло самый корень того... – Александр Данилович запнулся, легкая тень легла на его лицо, – невероятно мучительного и жгучего вопроса, который задает себе любой, имеющий отношение к искусству: «Кто я и что я для искусства?». Каждый считает свой дар, талант, способности и прочее, самым ценным, значительным, чем у кого бы то ни было. И, соответственно, очень ревниво относится к тому, кто был удачливее, именно удачливее, – Александр Данилович подчеркнул последние два слова, – а не талантливее, или одареннее, что не могло быть этим… – он опять замялся, – скажем, трудоголиком, принято как данность, как факт. Тем более что перед глазами, как яркий пример опровержения такой точки зрения, находился человек, которому не было никакого дела до всех трудовых подвигов его товарищей. Они корпели, исходили потом, убивали лучшие годы своей жизни на отработку рутинных задач, а для него труд и корпение над нотами были чем-то позорным.
И знаете, теперь я прекрасно понимаю его. Человек, на слух играющий «Каприсы» Паганини, может себе позволить поиздеваться над трудягой! Он относился к своему таланту, как к копеечной игрушке, ничего не значащей мелочи, которой не может не быть в нем и точка.
«…как всегда, очень конкретно, в самый корень… ты всегда был прекрасным аналитиком…только такой умник смог рассчитать такую операцию – «споить конкурента»…».
– Наверно, было неприятно сознавать, что твои усилия в сравнении с достижениями друга давали такой мизерный результат?
– Именно, именно! В то время, когда ты сам молод и чувствуешь силы, никак не хочется поверить, что есть кто-то рядом, который все твои достижения отодвигает куда–то в заурядность одним взмахом смычка!
– Да, такое трудно осознавать, особенно при наличии таких жизненных установок. А скажите, что же стало с вашим другом? Стал ли он знаменитостью, как это следует из ваших слов о его незаурядном таланте? Ведь такой талант не утаить от общества!
Дирижер при этих словах ведущего вяло усмехнулся:
– Этот вопрос для меня сейчас представляет настолько большую проблему в плане ответа на него, что я предпочел бы промолчать. Об одном только могу сказать, – мой друг, по многим причинам, так и остался в безвестности. Я очень сожалел об этом, но некоторые качества его характера не дали ему развить свой исключительный дар. «…тебе можно сейчас сожалеть… бездарный негодяй… все достигнуто… а моя жизнь сломана тобой, …».
Александр Данилович остановил свой взгляд на ведущем, но смотрел куда–то через него, словно припоминая что-то. С самого первого часа, с той самой первой ноты он вызы-вал у Александра смешанное чувство противного, до мелкой дрожи, непонимания, неприятия реальности такого чуда, ибо о таком он только читал про великих мастеров скрипичного искусства. В его мозгу не совмещались – они, с их трудной, полной ежедневной борьбы и труда жизни и Серегин, – по всем статьям бездельник. Павел врывался в репетиторий, с мороза, свежий, румяный, отдохнувший и веселый: «Да брось ты свою коробочку! Смотри, что на улице делается! Погнали, прошвырнемся!». И когда ему удавалось его уговорить, Александр, идя рядом, с недоуменным сожалением слушал, как Павел взахлеб рассказывает ему о вчерашней вечеринке, где собрались такие люди! Они слушали его, восторгались его игрой. А потом был стол, такой банкет, что умереть не встать! Ну, конечно, перебрал немного, но его оставили ночевать и там… у-у-ах, какие девочки были, что эдемские гурии просто потаскушки по сравнению с ними…
«Жалко, что тебя не было! Ну, ничего, сегодня меня пригласили в одно место, будет не хуже, рванем со мной?» Александр сухо отнекивался, ссылаясь на неотработанную вещь, и коротко говорил: «Тебя профессор спрашивал, что ему сказать?» «Да сообрази чего-нибудь, что, в первый раз, что-ли!» и беззаботно махал рукой. Приняв без огорчения отказ Александра составить ему компанию, он весело бросал «Ну, жаль, чувак...», и тут же исчезал. Александр тогда никак не мог понять, за что судьба, словно смеясь над всеми законами справедливости, наделила этого неразвитого недотепу таким даром, пропуская более достойных ее милости людей…
– Но почему же? Вы меня и наших слушателей, я думаю, просто настолько заинтриговали, что вам поневоле придется парой слов рассказать об этом феномене!
Александр Данилович нервно сжал пальцы и отчужденно произнес:
– Я могу лишь, в контексте нашей беседы, проиллюстрировать, как карьера, которая ожидала моего друга, была им самим погублена… И никто, ни профессора, ни его друзья, никто не смог предотвратить этой творческой катастрофы.
«…да, да, расскажи им всем, как ты меня спаивал, как оставлял наутро в закрытой квартире… накануне жеребьевки на конкурс, уверив профессора, что я в тяжелом загуле… подговаривая своих друзей, подставляя продажных девок…держать меня на поводке…. Что я мог противопоставить этому навалу… свою дремучую неопытность…».
– Интересный поворот! – удивленно протянул ведущий – Судя по вашему рассказу, он достиг бы своей цели, образно говоря, играючи! Что же случилось?
– Видимо, сказалась его мягкотелость, неустойчивость психики. Он, как мне сейчас кажется, не обладал нужными чертами характера, например, работоспособностью, чтобы совместить воедино свой талант и необходимую, для достижения высоких целей, волю. Его исключительная легкость овладения техническим и нотным материалом сыграли в конце концов с ним злую шутку.
Александр Данилович остановился. Создавалось впечатление, что разговор этот его тяготит, но и прервать его он не в силах, желая выговориться, как будто именно сейчас, в это время наступила настоятельная необходимость это сделать.
– Повторюсь, у него не особенно был развит интеллект, он не был умен. Серегин был из простой семьи, жившей в где–то в сельской глубинке, и потому планка его культурного ценза была на уровне восьмилетки тамошнего преподавания. Он был прослушан случайно заезжими к ним на шефский концерт педагогами музучилища. Знаете, его дар был сродни абсолютному собачьему слуху. Он просто есть и у самой глупой шавки. Так положено природой.
«…О, да!.. Как умело ты смог дождаться результатов своего труда… Если бы так же был искусен и талантлив в музыке, как в плетении козней и интриг… Как терпеливо ты дожидался наших с Машей размолвок, сатанински раздувая их до необратимых скандалов… И когда мне Маша говорила все, что она думает, я узнавал в ее словах твои, черные и мерзкие… они отравили ее… застлали ум, не дав мне оправдаться, выбраться из ямы. Не дав мне времени переменить нашу жизнь…».
– А как же его игра? Вы говорили о невероятном вдохновении и виртуозности, врожденном артистизме и тонкости чувства?
…Настроение Александра, еще утром сплетенное из радужно-приподнятых ощущений предстоящих значительных событий, таяло с каждой нотой блестящей игры Павла. Только одна кандидатура оставалась вакантной на парижский конкурс Маргариты Лонг и Жака Тибо. Как ему сказал на последнем прогоне профессор, он был единственным, кто мог бы сейчас туда поехать. Серегин со своей сырой программой выглядел тогда вялым и неубедительным. За оставшиеся две недели до отборочного академа не оставалось времени, чтобы он смог вытянуть ее на требуемый уровень. То, что он сделал, было похоже на чудо, которому не было объяснения. Никому не было под силу его сотворить, но Серегин, непостижимым образом вместил в эти две недели трехмесячный срок, нужный для подготовки его сложной программы. И сейчас все присутствующие в зале люди становились свидетелями торжества гения. В эти минуты, длившимся, казалось, вечность, Александр с холодной тоской в сердце почувствовал, как звуки, наполнявшие зал, для него зазвучали похоронным маршем. В них было все; конец его надеждам, сжавшего сердце жесткими, словно стальными тисками, и ревнивая зависть, заливавшая мозг невыразимой тоской жестокого вопроса: «Почему? Почему он?..» и ощущение призрачности его шансов на встречи с Машей. Александр искоса наблюдал, как Маша смотрела на Серегина. Ее лицо стало воплощением льющейся в зал мелодии, зримым продолжением неосязаемых звуков, на котором мелодия почти физически творила свою гамму чувств. Не осознавая этой власти над собой, заворожено, чуть откинув голову и полуприкрыв глаза, Маша без остатка отдалась магии музыки. Тонкие, акварельной чистоты черты ее лица поддавались под властными, незримыми пальцами, лепивших из него неземное совершенство линий. Слетающие из-под смычка музыкальные образы вносили свой мимолетный нюанс в движение ее бровей, губ, поворота головы, чтобы в следующий миг смениться еще более выразительной и прекрасной метаморфозой. Она жила в музыке Серегина, там обитала ее душа…
Это было невыносимо. Не в силах унять гулкое сердцебиение, он пробрался по ряду и вышел в коридор. Ему не хватало воздуха. Александр торопливо расстегнул воротник рубашки и сделал несколько глубоких вздохов. Из-за полузакрытой двери он слышал горячий, обжигающий душу поток звуков. Он умом понимал, что это всего лишь концерт Сен-Санса, но в его сердце поднималась горячая волна неподвластного его воле чувства. Оно звало в высь, наполняло сердце таким непостижимым количеством его, что хватило бы на многих. В это время он ненавидел Серегина, холодной, до судороги в скулах, ненавистью.
До этого дня было много академических концертов, но этот был особенным, могущим стать вехой в жизни любого музыканта. Конкурс был билетом в будущее, успешной карьерой, даже если и не посчастливиться вытащить первый приз. Его диплом открывал двери филармоний, лучших концертных залов. Но на каждом академе все было как прежде. Александр ждал срыва Серегина. Долго так не могло продолжаться. На одном таланте долго не выедешь. И всегда в нем теплилась надежда, звучало какое-то тайное моление, словно что-то должно было случиться, померкнет наваждение, исчезнет волшебство игры Серегина, что вот-вот взойдет и его звезда.
Он понимал, что его исполнение и прочих остальных в сравнении с исполнением Павла, как игра школяров и вдохновение зрелого гения-мастера, как слабенький, бегущий на цыпочках полузвучок флажолета против извлеченного мощным, уверенным движением смычка полнокровной кантилены. Они все только изображали страсть, игра Павла была самой страстью.
Слушать его академы набивался полный зал народу. Ничего в исполнении Серегина нельзя было убавить или прибавить. Восхитительное чувство меры звука и техники поглощала слушателей полностью, даря им, как божье откровение, безбрежный мир высокого чувства.
Сегодня Александр с жертвенной неотвратимостью понял, что пока Серегин находиться рядом с ним, он всегда будет в его тени, вечным неудачником. Весь оставшийся день Александр провел как сомнамбула, заторможено и отстраненно. Говорил, улыбался, двигался, словно на автомате, не в силах преодолеть чувство тоскливой пустоты. «Что с тобой…, ты болен?», «Тебе ведь пятерку выставили!»
Его это только раздражало. Он кривил губы в брезгливо-презрительной усмешке, и всем становилось ясно, что эта оценка в лучшем случае была для него пустой фикцией. Так долго не могло продолжаться. Если Серегина не остановить, ему, Александру здесь, в этих стенах делать было нечего. И Маша... – одна мысль о ней обжигала горячей волной от сердца до кончиков пальцев все тело. Господи, если бы она хоть бы раз посмотрела на него таким взглядом, как на этот кусок экзальтированной плоти!..
Вечером все собрались по случаю сдачи академа в комнате Александра и Павла. Александр понимал, что центром внимания он обязан только блистательной икре Павла. Всем хотелось с ним пообщаться, даже, скорее, приобщиться к знакомству с восходящей звездой скрипичного искусства. На Павла сыпались поздравления, он принимал их как должное и на его лице замерла счастливо-восторженная улыбка. Этот вечер для Александра стал моментом истины, когда, наконец, пришло такое трудное, но определенное волей судьбы решение.
Часа через два, когда разгоряченный вином и полемикой Павел, в простодушной усмешке возразил Александру, что тот очень приличный скрипач, но звезд ему с неба не хватать. И уж лучше, по его мнению, быть крепким ремесленником в своем деле, чем пыжиться в тщетной погоне за признанием. Педагог музыкальной школы, даже руководитель музкружка и то полезнее, чем дутый талант. На таких людях держится весь музыкальный мир. Что делать, если не всем бог дал право стать творцом музыки. Александр, будто заледенев душой, слушал это пьяное откровение Павла, видел, как смеются все, как смеется над ним Маша и холодная, расчетливая ярость с каждой минутой отливала в нем тяжкий молот мщения…
…Александр Данилович пожал плечами:
– Дело тут не в этом. Именно эти его качества не дали ему возможности трезво соотнести свой талант и оценку окружающих. Он не понимал и не хотел знать, что все только ради его таланта не будут прощать ему ничего. Каждый сам по себе есть личность, и только время ставит акценты на них.
«Конечно, потому стоило оболгать друга в глазах профессора, его жены… друзей».
И все же только с годами понимаешь, что изменить эту данность, природное начало таланта, невозможно. Жизнь все равно расставит все на свои места, но вернуть назад уже ничего нельзя. У каждого бывают… – Александр Данилович запнулся, – случаются моменты с жизни, о которых впоследствии приходится сожалеть. Мы не отделяли свою цель от средств, которые нам представлялись ближайшими для этого, ну, что-ли, более скорыми, не понимали, что каждому из нас отведена своя дорога. И не менять ее надо, а найти и следовать по ней … С высоты прожитых лет становится ясно видно, как мы были тогда безоглядно глупы, самонадеянны и жестоки в выборе этих средств…
«…теперь, когда взобрался на помост по лестнице из... хм, друзей, можно с высоты пожалеть их, униженных и раздавленных…».
– Скажите, а могла бы состоятся карьера вашего друга при иных условиях?...
– Любая работа требует времени, если ты хочешь чегонибудь добиться в жизни! – Александр Данилович грустно усмехнулся:
– Никто не сможет состоятся, ни один, даже самый гениальный человек стать значимой личностью, если будет полагаться лишь на природные данные. Только беспощадное самобичевание, как в сектах хлыстобоев, сможет дать гарантию, что карьера состоится. Простите, что сказал банальную вещь, но я очень часто вижу, как талантливый человек уничтожает в себе сибаритством и бездельем царский подарок природы, божий дар.
– Скажите, вам ничего о его дальнейшей судьбе неизвестно?
Дирижер потер пальцами переносицу, прикрыл глаза и сказал с грустной обреченностью:
– Он умер…, теперь я это знаю точно…
«…после того, как ты, как паук, высосал… высушил мои надежды …».
Ведущий, почувствовав трагические нотки момента, нашелся и сказал:
– Ну что ж, бог судья каждому из нас. Давайте лучше продолжим говорить о вас, состоявшемся и успешном…
…Судьба, ощерив свою хищную пасть, хохоча и изгиляясь, как базарная торговка, посылала ему свой последний привет. Выставляя на экране напоказ его злого гения, она глумливо говорила: «Это мой тебе подарок! Будь счастлив! По божескому дару и мой презент!».
Выступление Александра Даниловича по телевизору в такой момент его жизни, такое совпадение, стало последней каплей, насмешка судьбы над ним, униженным, раздавленным, втоптанным в грязь… Серегин не стал дальше слушать казенные дифирамбы в адрес его единственного в прошлом друга, беззаветного и бескорыстного, всегда внимательного, услужливого, готового помочь, выручить, одолжить…
Он вышел на балкон… Какой ответ? Чего он еще ждал? Зачем? Всё, вся его жизнь кончилась восемь лет назад, когда Маша, на четвертом месяце беременности решила уйти от него к Александру. Александр долго добивался этого, постоянно кружа вокруг них, одним своим присутствием показывая ей разницу между посредственным трудягой и гениальным бездельником, между успешной посредственностью и никчемной талантливостью, между благополучием и нищетой…
Он помнил, как она, стоя напротив, покраснев лицом, гневно кричала, и ее слова, «черные, мерзкие», засевшие в памяти медленной отравой, и эти года, опустошаемых в неисчислимой череде винных бутылок только укрепляли его решимость покончить с затянувшимся умиранием.
Эта мысль билась под черепом тяжелой пульсирующей волной. Он чувствовал не воспаленные синапсы, сотни тысяч, миллионы их, разбухших кровавыми узлами, а нечто иное, – там была его душа, она просилась наружу, на свободу, устав от уз невероятно долгого заточения!
Он прочитал еще раз последнее письмо от Маши, перед тем, как смять его и выбросить с балкона. Порывом ветра письмо взметнулось вверх, мелькнуло мимо Серегина, рывками задергалось над крышей дома, над верхушками тополей, и закрутилось в бешеной пляске предгрозового вихря.
Серегин выпрямился, поднял голову и увидел белую птицу. Она падала, снижаясь кругами, все стремительнее, круче, и вот ее белое тельце, там, внизу, под балконом, обратившись в смятый комок бумаги, манило, притягивало его взгляд с необъяснимой гипнотической силой. Этот белый комок вдруг стал стремительно разрастаться, закрыл собой все видимое пространство, вспыхнул яркой молнией, и внезапно наступившая тьма поглотила его сознание навсегда…
Удар грома раздробил свод небес, и он мириадами осколков обрушился вниз. Первые тяжелые капли выбили фонтанчики пыли. Они вырастали около головы Серегина странными цветами с красными венчиками на тонких ножках, живущими один миг, словно принося свой последний дар напрасно растраченной божественной силе…
Серегин лежал, раскинув руки. Лицо его было обращено к небу. В его открытых глазах застыло отрешенное спокойствие вечности, сквозь смертную маску которой проступал холодный, прекрасный лик ангела…
Утром участковый Федотов проснулся от настойчивого телефонного звонка. Трезвон тягуче и едко пробивался в уши, разрушая сладость предутреннего сна. Вставать не хотелось, но, судя по тому, как долго не опускали трубку, Федотов понял, что залеживаться ему не дадут. Чертыхнувшись, он зашлёпал босыми ногами по выстуженному полу и, зябко поведя плечами, взялся за трубку:
– Федотов слушает.
– Микола, да ты шо, вмер чи шо? Давай скорийше сюды, к медпункту, – ворвался в комнату дребезжаньем мембраны возбуждённый голос.
– Ну что у тебя там стряслось? – участковый узнал голос Лещука, деревенского сторожа, хитрющего пройдоху и первого на селе сплетника.
– Миколаич привёз змерзшего хлопчика, совсим змерзшего, насмерть! Говорит, у лесу нашел, у дороги, к сосне притулился и сидит...
– Ладно, не тараторь, – остановил его Федотов, – сейчас подойду.
Одеваясь, с раздражением думал: "Ах, черт, надо же такому случиться! Столько лет никаких происшествий, а тут на тебе – со смертельным исходом. Чей же это мальчонка?.."
Подходя к медпункту, одноэтажному, каменному дому, недавно построенному, Федотов, увидев толпу односельчан, удивлённо подумал: "Эк их набежало, успели уже! Как пить дать, работа Лещука. Вот сорочья порода! И когда только успевает!.." Ещё издали участковый увидел в самой гуще толпы, возвышавшегося над ней деда Николаича. Тот, по своему обыкновению, оглаживая рукой бороду, спокойно гудел в ответ своим широким басом, обступившим его бабам:
– Да не ведаю я ничего, бабоньки, кто и откуда. Одно слово – мальчонка. Придет начальство – разберётся...
Поодаль, у заборчика, стояли розвальни с впряженной в них понурой лошадёнкой. На санях прикрытый неопределённого цвета тряпкой, служившей, видимо, попоной для лошади, высился небольшой холмик, своими очертаниями отдалённо напоминающий фигуру человека.
– Граждане, попрошу разойтись, смотреть здесь не на что. Мужики, давай расходиться. – Федотов повернулся затем к одной из старух, стоявшей поближе к нему: – Тимофеевна, не у тебя ли подсвинок надрывается? Прохожу сейчас мимо, а со двора визг несётся, будто кого режут. Кажется мне, что твой внук на нём опять опыт производит.
Тимофеевна испуганно дернулась в сторону и, перемежая причитания с угрозами, рысцой потрусила к дому. Разрядив, таким образом, напряжение, сковавшее всех, участковый уже официально сказал:
– Всё, обсудили и давайте расходиться. Тут не кино – дело серьёзное. Прокофий Николаич, тебя попрошу остаться.
Мужики двинулись по своим делам, однако бабы, разбившись на небольшие группки, обсуждая это, чрезвычайное для их деревни, событие, не торопились. – "Вот страсть-то какая... жалко больно... мальчонка махонький..." – обрывками долетало до Федотова и он, вдруг вспомнив что-то, окликнул одну из стоявших женщин:
– Варвара, будь любезна, сбегай скоренько, позови Пантюхову. Медпункт открыть надо.
Ему тотчас же ответило несколько голосов: "Да побежал уже Лещук. Небось, скоро придет".
Федотов обернулся к деду:
– Пойдём, Прокофий Николаич, поможешь перенести тело в медпункт и заодно там дашь показания.
– Об чём разговор, тут дело понятное. Другие непонятки, – как это его волки не попортили, – пробасил дед, махнув кнутовищем в сторону саней. – Зима нынче лютая, а мальчонка-то всю ночь просидел. Судьба ему, видно, такая выпала.
Федотов молчал, прикидывая, с чего лучше начать. Его размышления прервал прибежавший Лещук:
– Чуешь, участковый, дела какие маются? Хлопчик-то не наш! В Бабурино я тэж его не бачив...
Не слушая разговор, который затеял Лещук с дедом, Федотов думал именно о том же. Он мог припомнить всех ребят одного возраста с покойным в округе, но этого не знал определённо, сколько ни вглядывался в застывшее лицо мальчика. "Не похоже, чтобы он был испуган, по выражению лица этого не скажешь, но тогда отчего он плакал?”
На правой щеке мальчика застыла слезинка. На плотно сжатых ресницах они смерзлись в ледяную бахрому и если бы не это, можно было подумать, что мальчик спокойно заснул. “Откуда он взялся там?”, – продолжал размышлять участковый, – "До нашей деревни семь с лишним километров, да четыре до развилки дорог. От самой развилки пять километров до Бабурино и около одиннадцати до зоны. Вот и думай, откуда он взялся?"
– Лещук, ну где же Пантюхова? Ты ей сказал, в чём дело?
– А як же, Микола Афанасич! Сказала, что мигом. Мабуть, трошки задержалась, с дитями возится. Да не, побачь, вона сама идёт.
Когда тело мальчика внесли, Федотов позвонил в райцентр следователю Никитину. Тот ответил, что приедет через два часа. Участковый решил за это время, после того как осмотрит тело мальчика, съездить на автостанцию и пораспросить там людей – возможно, кто и приметил мальчонку. Нужно было установить, был он один или же с кем-нибудь из попутчиков.
В том, что мальчик приезжий у Федотова не было никаких сомнений. Одет он был не так, как деревенские ребята. В их глуши подростки ещё не стеснялись носить одежду перешитую из отцовских вещей. В карманах пальто мальчика помимо восьми с мелочью рублей, Федотов обнаружил два железнодорожных билета и, осмотрев их, даже присвистнул от удивления. Билеты – один к ближайшей от них железнодорожной станции был выдан на станции города, находившегося отсюда в полутора тысячах километров. Другой был обратным до того же города. Всё это наводило на мысль, что мальчик приехал к кому-то из живущих в здешней местности. Этим предстояло заняться в первую очередь.
Он дописал протокол и, сложив его, засунул вместе с деньгами и билетами в планшет. Потом встал, подошел к топчану на котором лежало накрытое тело мальчика и отдвинул угол простыни.
Лицо мальчика всё ещё сохранило свои чистые, юные черты, уже теряло определённость, сглаживалось проступающей синевой. Федотов задумчиво смотрел на оттаявшую на щеке слезинку, на взъерошенные, вихрастые волосы и не в силах побороть охватившее его щемящее чувство, быстро опустил простыню и вышел.
... – Папа, а сколько ты раз можешь подтянуться?, – спрашивал Сашка и не дожидаясь ответа говорил отцу с гордостью: – Я десять раз, а Мишка только три! – и заливался смехом, одновременно показывая пальцы, столько, сколько раз подтянулся Мишка. Потом пренебрежительно махал рукой: – Мишка говорит, что не любит подтягиваться, а всё это враки! Он просто не может, я знаю. Я видел, как он пыхтел, когда тренировался. Умора! Хотел подтянуться больше шести раз, да как плюхнется на землю!..
Саша, вспомнив это, попытался улыбнуться, замерзшие губы не послушались его. Спина занемела, но он, стиснув покрепче застывшие пальцы в карманах, уже не хотел двигаться. Воспоминания приходили сладкие и приятные, одно за другим, как длинный ласковый сон...
Отец ему не ответил. Он лежал на спине, заложив руку за голову и смотрел вверх, в синее, бездонное небо. Его глаза, казалось, застыли на какой-то бесконечно далёкой точке. Саша смотрел на лицо отца, его прямой нос и упрямый подбородок, который в детстве так любил трогать пальцами. Саша положил голову на плечо отца и тот, почувствовав прикосновение, глубоко и прерывисто вздохнул. Из его груди вырвался низкий звук, похожий на приглушённый стон, как это бывает от сдерживаемой боли или душевной муки.
Саша приподнялся и спросил:
– Пап, тебе плохо?
Отец посмотрел ему в лицо и сказал:
– Нет, нет, ничего, всё нормально,
Уловив в голосе отца отчужденные, непонятные нотки, Саша заглянул ему в глаза:
– Пап, скажи, у тебя что-то случилось, я ведь понимаю. Вы с мамой всё время о чём-то шепчетесь и при мне стараетесь говорить о пустяках. К нам домой приходят люди, которых раньше я никогда не видел, а после их ухода ты становишься белый как бумага, а мама долго плачет…
Ночное небо, утыканное ледяными иглами звезд, надвинулось на мальчика. Холодные светила отражались в его широко открытых глазах, но Саша не видел всего этого. Та последняя поездка с отцом за город, на рыбалку, ярко и отчетливо стояла перед ним, заслоняя собой реальную, но такую сейчас далекую и уже ненужную ему действительность…
Отец молчал некоторое время, но потом ответил:
– Ты прав, Саша, ты не маленький. Но пока я не хочу объяснять, что происходит... Не хочу, потому что для тебя есть ещё то, которое тебе объяснить или ты понять не в состоянии. Ты сможешь только это почувствовать, но этого тебе сейчас будет недостаточно. Я прошу тебя – всё происходящее не принимать близко к сердцу. У нас скоро всё образуется, и ты узнаешь ответ на свой вопрос, договорились?
Тогда, выслушав отца, Саша кивнул головой и засмеялся в ответ на его улыбку, но всё же в сердце с тех пор осталось непонятное чувство, не то тревоги, не то беспокойства от сознания того, что первый раз в его жизни отец не захотел прямо ответить ему. Только теперь всё разрешилось – не захотел он тогда гово-рить, или... не смог.
Саша понял это сегодня утром, Когда отец вошел в комнату, где им разрешено было свидание, он увидел, как изменился и постарел его отец. В первое мгновение Саша даже не смог узнать в вошедшем мужчине с осунувшимся лицом, глубоко запавшими глазами, одетого в ватник, и тронутыми сединой коротко стрижеными волосами, отца, – того стройного, всегда подтянутого, наполненного спокойной, уверенной силой, человека. И в это самое мгновение он осознал, наконец, всю непоправимость происшедшего. Почти год с того дня, когда увезли отца, Саша не хотел верить никому и ничему. Его сердце не принимало той страшной правды, которая обрушилась на него, на отца с матерью.
Те горькие дни, когда мать приходила с работы, были наполнены ожиданием, что вслед за матерью, как и всегда с весёлой усталостью войдёт отец и всё развеется, как кошмарный сон. Даже письмо, сухое и отчуждённое, вскоре полученное от отца, не стало для него доказательством этой несправедливой и страшной беды...
Саша увидел как отец, едва войдя в комнату, вздрогнул и, отступив назад, прислонился к косяку. Так они и стояли – он, бледный, застывший струной от переполнявшего его напряжения и отец, ссутулившийся, глядевший на Сашу глазами, из которых катились слезы по заросшим щекам, по дрожавшему мелкой, судорожной дрожью подбородку...
Лицо мальчика осветили фары, проезжавшей по дороге, машины. Луч яркого света, скользнув дальше по дороге, резкой вспышкой отозвался в сознании. Сотрясаемый гулом мотора воздух, сбросил с разлапистой ветви ели тяжелый ком снега. Ком скользнул вниз и запорошил мальчика, сделал его неотличимым от покрытых снегом кустов и ветвей разлапистой ели, укрыв, как и всё вокруг, таким же белым, сверкающим в бесстрастных лучах звёзд, вечным покровом. Саша, почувствовав боль в ноге, вытянул её и освободившаяся ветка куста, который он подмял под себя, когда садился, резко вздёрнувшись, хлестнула по шапке и лицу. Удар не причинил ему боли, но, странным образом, вызвал давнишнее, но не забытое чувство обиды. Всё это время – до, после суда и потом – Саша видел косые, неприязненные взгляды, слышал разговоры об отце, но они вызывали в нём лишь чувство возмущения и протеста. Жестокую, обнаженную во всей подлости обиду он испытал позже, возвращаясь как-то раз из школы...
– Кажись, здесь. – Николаич обернулся к Федотову. – Аккурат у ентого кустика заприметил. Случаем поглядел ведь. Гляжу, а там навроде сидит человек, снежком притрушен. Шапка только на ём видна была. По ей и приметил, точно, вот там...
"Газик" затормозил напротив того места, куда показывал дед. Никитин, следователь из районного отделения ОВД, заглушив мотор, потянулся, разминаясь:
– Ну что ж, пойдемте-ка посмотрим...
Когда все трое вылезли из машины, Федотов на мгновение зажмурился от яркого, рассыпавшегося на миллионы искрящихся точек, света.
– Эх, хороша погодка выдалась сегодня, правда, дед? – Никитин игриво подмигнул Николаичу и посмотрел на Федотова: – Ты чего сегодня такой... помятый, а? Что-нибудь эдакое лишнее сообразил вчера? Угадал? Ну, признайся? – Никитин ткнул Николая плечом.
–Да отстань, разрезвился не ко времени! Холодно, потому что с утра поесть не дали, – досадливо буркнул Федотов.
– Фу ты, нашёл причину. Закончим сейчас, найдем к закусончику и погреться чем-нибудь. Живи да радуйся! Ну, дед, туда что ли, показывай...
Пока шли к кусту, Федотов, глядя на широченную спину Никитина, думал с усмешкой: "Хорошо в этаком тулупе рассуждать на морозе. Тебя бы в мою шинелишку на полчасика... А то, – "живи да радуйся"...
За многие годы дружбы между ними, Николаю никогда не было так неприятно, как сегодня, слышать это знаменитое никитинское "Живи да радуйся"."И что ему смерть какого-то там мальчонки, – так, абстрактная эфемерность... Нет, не меняется человек, не меняется"…
– Ну и натоптал ты здесь дед, как лось! И чего спрашивается, искал? – Никитин недовольно посмотрел на Николаича. Тот не остался в долгу:
– А то и топтался, что думал, – приедет следователь и будет расследовать, – так чтобы не скучал, поболе следов оставил.
– О, о, распетушился! Ну и хватит с тебя, стой, где стоишь. Нам и этого на два дня с лишком разглядывать придется.
Никитин, подойдя на метр, где сидел мальчик, остановился и, наклонившись, будто высматривая что–то под снегом, спросил у Федотова:
– Николай, высказывай, что думаешь?
– Да то же, что и ты. Мальчонка сам сюда забрел. Ничьих следов, кроме наших да его, здесь нет. Снега давно не было, ветра тоже.
– Ну, конечно, конечно... – Никитин в раздумье тер перчаткой под бородок. – Уж место больно неподходящее.
Молчавший до этого Николаич проронил:
– Припозднился, видать маленько паренёк. Идя пёхом, подустал малость, ну и присел передохнуть, так что-ли?
–Так, да не совсем, Даже если на автобус опоздал, на попутке любой мог доехать. – Никитин вдруг увидел, что участковый, повернувшись, направился к торчавшему метрах в трех от них, кусту. Наклонившись около него и через мгновение выпрямившись, Федотов пошел обратно:
–Вот, – подойдя, он протянул Никитину сложенный вдвое затёртый конверт.
– Теперь всё ясно, – подытожил Никитин, прочитав адреса на конверте. – Письмо было отправлено месяц назад из лагеря, как раз в город, откуда приехал парень. Осталось выяснить, кто у него там сидит и провести опознание. Поехали скоренько, надо успеть до трёх.
...Саша открыл глаза. Ночь, ярко вызвездив небо, ещё более прижалась к земле всей своей черной, холодной грудью. Но в его памяти чётко, как большой, цветной фотографии отпечатался тот осенний день...
Ему не хотелось идти домой, и он долго ещё сидел в сквере на скамейке, бездумно смотря на суетящихся около его ног, голубей. Саша поднялся только через два часа и, подхватив портфель, побрел домой...
– Эй, духарной, поди сюда на минутку, – Саша поднял голову. В тёмном проезде, на ступенях, ведущих в подъезд, сидело трое. Саша сначала не разобрал, кто его окликает, но потом, привыкнув к полумраку, увидал Генку, здорового, длинного, верзилу. Несмотря на тёплый день, на Генке был надет его неизменный, глухой, под подбородок, черный свитер, с продранными на локтях рукавами. Остальные двое, которых он не знал, довольно ухмыля-ясь, рассматривали его.
– Не боись, чего встал, поди сюда.
Саша, подойдя поближе, почувствовал запах водочного перегара. Генка, откинув назад длинные, сальные волосы, приказал одному из сидевших рядом парней:
– Ну-ка, сообрази нам что-нибудь. Не видишь, чуваку в самый раз сейчас махнуть надо. В таком смурном виде только под тачку ложиться. А ты, чувак, не робей, настроеньице в один момент поправим. Будешь у нас веселеньким, как воробушек. С ближним надо делиться, не бросать в беде, правильно?
Парни заржали. Тот, к кому обращался Генка, протянул Саше наполовину наполненный стакан:
– Давай, давай, не стесняйся, – ласково и дружелюбно подбадривал Сашу Генка, – от чистого сердца отрываем. Отреж-ка ему хвостаря пососать. Деликатес! – глубокомысленно закончил Генка, подняв кверху палец с большим, грязным ногтем.
– Я пойду, – глухо сказал Саша, глядя на Генку усталыми глазами. – Я не буду пить...
– Ну и праильно, – икнув, неожиданно согласился Генка. – Тебе ещё рано. Хотя по поводу можно. Мы ведь твоего папашку сейчас здеся поминали, к слову говоря. Мировой мужик был! Говорю был, потому как такой кусок, какой ему подкинули, переварить не всем удается. Н-н-н-да, не всем!
– Не тронь отца, – не глядя на Генку, сказал Саша.
– И-эт почему? – удивился тот. – Почему-ж не тронь? Он теперь наш, понимаешь, малявка, нашего роду-племени. Чем скорее ты это поймешь, тем лучше будет для тебя. А над тобой мы шефство возьмем, вроде тимуровцев, слыхал про таких? Вот и ты, как сын пострадавшего на нашем фронте. Так ведь, гвардия?
“Гвардия” лениво дымя сигаретами, молча слушала весь разговор, только иногда прерывая его шумной отрыжкой. Оба в ответ одобрительно гмыкнули и Генка продолжал развивать дальше свою мысль:
– Папашка твой мужик с размахом. Эт правильно, – хапать, – так чемоданами. Он малость сплоховал, да с кем не бывает! Вам-то, небось, оставил на молочишко. Вы теперь и без барахла не бедные. Вот у кого учиться надо! – Генка лениво цыкнул в сторону парней. – Вот это вор! Ворюга!
Генкины слова обдали Сашу такой удушающей волной стыда и ненависти, что от нее, тяжелым, гулким звоном отдаваясь в голове, забухало стремительными толчками в груди сердце. Он за это время многое слышал об отце, но говорили это люди, которых Саша уважал, люди, облечённые властью, те, кто стоял в его мнении рядом с отцом. Он не хотел, не принимал их правды, но не отвергал их право суда над отцом.
Но сейчас, стоя здесь, в полутемном проезде и, глядя на пьяные, глумливые физиономии этих троих, он уже не мог сдержать себя. Чаша терпения была переполнена. Перед его глазами плыли странно искажённые, как в кривом зеркале, лица парней. “Да они же смеются! Они смеются... смеются...!” – продолжало бить гулкими, звеняще–пустыми ударами в голове. Они хотели сделать то, что не могли сделать бесконечные разговоры и пересуды. То, за что, как за спасительный островок среди моря осуждения, жалости и равнодушия, цеплялась его измученная, израненная душа. Честь семьи, честь отца, пусть и свершившего тяжкое и недозволенное, оставалась для него неколебимой. Сейчас её хотели отнять, бросить на грязный, заплеванный асфальт и растоптать.
Он смотрел на Генку, развалившегося на ступеньках, на его чёрный, длинный ноготь, которым он ковырялся в ощеренных хищной улыбкой мелких зубах, на тех двоих, от которых так несло кислым перегаром и вдруг осознал, что эта последняя, уничтожающая степень падения исходит от этих, не имеющих даже права допустить оскорбительного слова о его отце...
– Не смей!.. Не смей так говорить! Ты вор! Ты ворюга, а не отец! Ты гад вонючий, крыса, грязная крыса...
Саша задохнулся в крике, захлебываясь слезами. Улыбка медленно сползала с лица Генки. Он, выпрямляясь, слушал ярост ные, выкрикиваемые, словно в бреду, слова и вдруг, схватив Сашу за воротник, притянул к себе и сказал свистящим шёпотом:
– Ах ты, паскуда ублюдочная, мне такое говорить? Ишь, козёл сопливый, не веришь, – так съезди к своему папашке, он тебе порасскажет кое–что. А это тебе для разгона, чтобы быстрее доехал...
Генка резким и коротким ударом ладони в лицо отбросил Сашу к противоположной стене. Боль, пронзившая яркой молнией затылок, была последним, что запомнил он. Лежа в больнице, почти три недели, Саша многое за это время передумал и когда его, худого, бледного, мать привезла домой, решение пришло окончательное. Не помогли ни уговоры, ни слезы, ни мольбы матери – через три дня он уехал к отцу. Саша не стал объяснять ей, зачем, только сказал: "Надо"...
... Через несколько мгновений отец, сжимая Сашу в объятиях горячо и нервно, словно боясь не успеть, выдыхал каким-то глухим, утробным звуком одно и тоже: "Саша... Саша..., родной мой... Саша..." И в Сашиной груди, разрастаясь, как весенний ручей бурным половодьем, полились слезы облегчения, смешиваясь со слезами отца. Им не хотелось говорить. Оба, столько раз мечтавшие о встрече, увидевшись, поняли, что слова им не нужны. Они были сказаны раньше, в тех самых мечтах.
Но оставался один вопрос, только один, которым нельзя было ни пренебречь, ни забыть. Саша оттягивал его, как мог, сопротивляясь неизбежности оборвать этот сладкий миг встречи. Прижавшись к колючей щеке отца, он, как когда-то в детстве, засыпая у него на плече, уткнулся носом в ватник, пропахший потом, махоркой и машинным маслом. В нем возникало давно забытое чувство покоя, радостного и волнующего. И вместе с тем, Саша ясно ощущал, что чувство это лежит на сердце как оболочка, а внутри неё, будто крепко сжатый воздух в мяче, давит, раздирает эту непрочную оболочку тот самый один-единственный роковой вопрос. Он отчетливо, до боли, сознавал, что этот вопрос может отбросить их друг от друга далеко на противоположные стороны, но с собой Саша ничего не мог сделать.
Саша на какое-то мгновение ещё задержался, прижавшись к плечу отца, но тут же, украдкой вытирая рукавом слёзы, преодолевая сопротивление сжимавших его рук отца, повернул к нему лицо:
– Папа, я могу тебя спросить о чём-то?
Саша проговорил это, торопливо, не глядя на отца:
– Конечно, мой дорогой мальчик, мы обо всём успеем поговорить, ведь у нас пропасть времени, целых два дня, понимаешь, Сашок, два дня...
Отец шептал ему слова горячо, не прерываясь, всё подряд, неотрывно глядя в лицо сыну, – пойдем со мной, нам дали комна-ту. Мы сможем жить там два дня и говорить о чём угодно... Сейчас, я сейчас...
Он стиснул плечи мальчика и торопливо подошел к двери. На его стук конвоир отворил дверь. И когда отец, на короткий миг, задержавшись в дверях, бросил на сына счастливый, полный надежды взгляд, Саша понял, что не сможет задать ему свой вопрос ни сейчас, ни завтра. Он увидел во взгляде отца нечто такое, что заставило мальчика внутренне содрогнуться. Он понял, что отец не верит в то, что происходит, что он бесконечно боится выйти за дверь, оставить его одного, не потерять эту реальность ни на единый миг разлуки. Саша улыбнулся отцу, подбадривая его, и тот, крепко сжав рукой непослушный, прыгающий подбородок, кивнул и торопливо вышел…
–Н-да, тяжела сценка-то, – Никитин глубоко затянулся папиросой. Федотов ему не ответил. Он стоял у окна и смотрел, как по ступеням крыльца спускался конвоир и рядом с ним, темной, обмякшей массой, шагала фигура, только контурами напоминавшая человека. Дойдя до “газика”, конвоир помог взобраться мужчине на сиденье и захлопнул дверцу. Машина тронулась и вскоре скрылась за поворотом.
– Знаешь, Коль, что я думаю, – Никитин затушил папиросу и, подойдя, остановился рядом. – Я думаю, – сказал он после паузы, – не правы те, кто говорит, что сын за отца не отвечает. Он не только отвечает, но и платит за это высокую цену. Если я и сам так думал, то только до сегодняшнего дня, – да, до сегодняшнего дня, – утвердительно повторил он, повернувшись к Федотову.
Николай, уловив в его голосе странные, непривычные интонации, взглянул на потемневшее, серьёзное лицо Никитина.
– Ведь ты только подумай, – продолжал тот, – парень до самого последнего часа не верил в преднамеренность действий отца, а только в случайность того, что произошло. Вот именно, в случайность поступка, не затрагивающего чести отца и семьи. А когда отец сказал ему всю правду – он сломался, он не смог её принять...
Двое мужчин неподвижно стояли у засиневшего окна. Думали они об одном и том же, отчетливо и ясно понимая, что сегодня вошло в их душу нечто очень важное, о чем нужно помнить всегда – об ответственности перед теми, кто идет вслед за ними по дороге жизни.
Засидевшись за полночь за компьютером, Андрей Васильевич сегодня почему-то подустал больше обычного. То ли скачиваемая информация, тянувшаяся с торрентов как изжеванная до состояния киселя жвачка, то ли день, до предела загруженный возней с архивом, довели его до состояния сонной одури. Чтобы как-то убить время, пока скачивалась программа, он, машинально перебирая новостные ссылки, одну за другой закрывал гламурную дрянь, которой был усеян сайт. На одной из ссылок, не зная почему, Андрей Васильевич вдруг остановился. Это сообщение резко контрастировало с теми, которые он только что закрыл. Со страницы сайта на него глядело лицо молодого парнишки.
Строгое выражение курносого, с большими, широко открытыми голубыми глазами еще по-детски круглого лица как-то не вязалось с формой десантника ВДВ и крепко прижатым к груди автоматом. Андрей Васильевич скорее из чувства любопытства пробежал глазами текст под фотографией. И чем дальше он вчитывался, тем сильнее исподволь возникала в нем смесь гордости и одновременно жалости к этому солдату. Не убоявшись смерти, он прикрывал отход своих товарищей до последнего патрона и затем подорвал себя гранатой.
Андрей Васильевич сидел перед экраном, вглядываясь в давно прочитанную страницу. Он думал о том, что много таких ребят было за прошедшие годы чеченских компаний. Странно, вроде живут нынешние парни в другом времени, которое должно было выхолостить у молодых то, что раньше он и его сверстники знали как патриотизм, любовь к Родине, к родной земле. Стало быть, все не так уж и плохо, если такие парни, как этот солдат, появляются на русской земле…
Укладываясь спать, Андрей Васильевич никак не мог отделаться от навязчивой мысли, припоминая виденный снимок солдата: «Кто же это может быть? Уж очень памятен мне этот взгляд и глаза… Его лицо и особенно – глаза…». Он заснул с неясным ощущением того, что видел однажды этот, не по возрасту серьезный, устремленный на него взгляд, точно требующий открыть ему истину любви и чести…
Как-то, по прошествии некоторого времени, Андрей Васильевич по делам оказался на Красной Пресне. Выйдя из метро, он стал подниматься к зданию высотки. Ему на глаза попалось небольшое двухэтажное строеньице. Когда-то в нем был детский кинотеатр, канувший, как и многое из тех дней в лету. Но тут, при виде этого неприметного здания какой-то внутренний толчок вдруг вызвал в нем давний эпизод из студенческой жизни. Все внезапно связалось: и виденный на сайте снимок парнишки-десантника и всплывшая в памяти, подобно старой фотографии, ассоциация, высветившая, казалось, навсегда утраченные воспоминания. Он ясно и отчетливо вспомнил, когда увидел эти глаза, вздернутый кнопкой курносый нос и, главное, взгляд… Второго такого он не встречал. И как давно это было…
…Перейдя улицу, Андрей остановился перед маленьким зданием на углу. Здесь размещался, пожалуй, самый детский кинотеатр в Москве. Он всегда охотно и с большим удовольствием посещал, как только случалось быть перерывам между лекциями в институте, его сеансы. Там, за дверьми, всегда творятся маленькие чудеса, в которые, окунаясь с головой, словно уходишь в своё детство, и, каждый раз, расставаясь с уютным, маленьким залом, чувствуешь себя помолодевшим.
У касс стояла небольшая, из пяти-шести человек, очередь и среди них совсем немного детворы. Было ещё рано в этот субботний день и в школах не закончились уроки. Обычно же попасть сюда представляло проблему. Андрей, обрадовавшись случаю, поспешил купить билет на ближайший сеанс.
До начала оставалось немногим меньше часа. Он вышел из кассового зала и огляделся. Напротив, у зоопарка толпился народ, экскурсии школьников с весёлым гомоном торопились пройти на территорию зоопарка, затевая у ворот шумную толчею. Присев на железный парапет, отделявший тротуар от мостовой, он вдруг услыхал, что его окликают сзади:
– Дяденька, а дяденька?
Андрей обернулся. Перед ним стоял небольшого роста мальчуган, в сером, обтрёпанном пальтишке и шапке с задранным кверху одним треухом, видно великоватой для него, потому что она сползла ему на глаза. Он сдвинул голубые глаза, в которых застыло ожидание. Мальчишка был очень забавен и Андрей, улыбаясь, спросил:
– Чего тебе?
Мальчонка помялся секунду, но потом, преодолев смущение, от которого его щёки приобрели ярко-пунцовый оттенок, сказал:
– Дяденька, вы не могли бы мне дать пять копеек. На билет не хватает. Очень хочется... – шепотом добавил мальчик, не сводя с Андрея своих просящих глаз.
Вдаваться в анализ, как и почему, по примеру тех людей, которые, делая одолжение, снабжают его такой нравоучительной нотацией, что их деяние превращается в пытку, Андрей не стал. Он не видел в такого рода просьбах ничего дурного, – самому приходилось бывать в его возрасте в таких затруднительных ситуациях и потому, протянув мальчишке пять копеек, сказал:
– Держи, – и затем спросил: – Может быть, тебе больше нужно?
– Не-е, не надо, – протянул он. – Мне только пять копеек не хватало. Я в автобусе уплатил, вот и не хватило на билет в кино, понимаете? – простодушно пояснил мне мальчонка.
– А, тогда понятно.
– Ну, я пойду, ладно?
– Конечно, иди, а то билеты кончатся.
– Спасибо дяденька! – ответил он и, счастливый, скрылся за дверьми кассового зала. Андрей проводил его взглядом и тут же забыл об этом мимолетном разговоре. Перед кинотеатром собирался народ. В зал ещё не пускали, поэтому он остался сидеть на парапете, наслаждаясь теплотой ласкового, весеннего солнца. Рассеянно следя за прохожими, Андрей скользнул взглядом по красочной афише на фасаде кинотеатра. Его внимание привлёк какой-то маленький комок, темневший в углу. Это был больной голубь, нахохлившийся и прижавшийся к стене, спасаясь от бесчисленного количества ног, спешащих мимо. Глаза его были полузакрыты, он тяжело дышал и, казалось, силы совсем его оставили. Только иногда, встрепенувшись, голубь ещё теснее прижимался к стене, чувствуя в ней хоть какую-то защиту. Перед ним лежали два-три куска хлеба, но птица к ним не притрагивалась. Болезнь, видимо, совсем измучила его.
В это время сзади послышался мальчишеский голос:
– Мама, смотри, голубь! Можно я его поглажу.
И сейчас же к голубю подбежал мальчик лет шести-семи. На нём была яркая, модная курточка, вязаная шапочка и дорогие, теплые сапожки.
– Коля, сейчас же вернись, я кому говорю! – За ним спешила молодая, хорошо одетая женщина и, перехватив протянутую к голубю руку сына, повела его прочь.
– Сколько раз я тебе говорила – не трогай всякую гадость! Это такая зараза, что будешь сильно болеть, если только притронешься к нему! Ты меня понял?
– Да, понял, – буркнул мальчик, тщетно пытаясь вырвать свою руку из маминой. По его поведению нетрудно было понять, что не очень-то он согласен с мамой. Но мама, не в силах успокоится, взвинченная такой страшной опасностью, какой подвергалась жизнь её сына, продолжала:
– И куда только смотрят в санэпидстанциях! Сколько же развелось этой дряни! Неужели трудно отловить всех этих диких кошек, голубей, собак!?
– И никакая это не дрянь! – раздался вдруг сбоку взволнованный, звонкий голос. – Их лечить надо и не бросать. Они не виноваты, что у них нет дома! Их жалеть надо, ведь, правда?
Андрей с удивлением обернулся и обнаружил сидящего рядом недавнего знакомца. Тот глядел в сторону мамы с сыном с нескрываемым презрением.
– Он вовсе не больной, – повернулся ко мне мальчик, – это я его туда посадил. У него крыло сломанное, наверное, машиной ударило.
– А ты откуда знаешь? Может быть, он действительно болен. Тогда к нему лучше не прикасаться. Таких голубей в Москве много.
Мальчик сразу помрачнел и вздохнул:
– Да, я знаю. Только этот не болен, у него крыло сломано, я знаю точно. Плохо то, что он не ест. Так он не выздоровеет, – с жаром вырвалось у него.
– У меня дома было много разных там… животных, и я их лечил. Мама вот только ругается, – с досадой добавил он. – Теперь у меня живёт кошка и собака. У кошки лапа болит, а у Жука ухо разорвано, наверное, с собаками подрался, как вы считаете?
– М-м, наверное, – протянул Андрей, застигнутый врасплох его вопросом. Не знаю почему, но ему всё больше нравился этот маленький, рассудительный не по-взрослому, человечек. На его подвижном личике попеременно отражались все его внутренние переживания, с доверчивой непосредственностью, открывавшиеся чужому человеку. На вид мальчонке было лет семь-восемь, но одежда, сидевшая на нём просторно, – видно было, что она ему не по размеру, – делала его ещё моложе. Из-под штанин, поминутно подтягиваемых кверху, выглядывали плохонькие, побитые ботинки. Впрочем, это во все времена было уязвимым местом многих юных граждан мужского пола. Андрей вспомнил, сколько отчаяния бывало во взгляде матери, когда она, суя ему под нос разбитые ботинки, причитала: «Ох, Господи, ирод ты окаянный, ну что с тобой делать?! Где же я на вас напасусь всего!». «На вас» – это значило на него и его братьев, потому что его ботинки законным образом переходили к ним по наследству. В общем, история обыкновенная в послевоенные годы. Наметанным глазом Андрей определил, что в данном случае ситуация та же и потому уверенно спросил:
– Ну, а братья твои тоже приводят домой собак и кошек?
Мальчонка, широко раскрыв глаза, удивлённо посмотрел на Андрея:
– А откуда, дядя, вы знаете про моих братьев?
– Догадался.
– А-а-а, – мотнул он головой в знак того, что понял и ответил: Нет, бра- тья никого домой не приводят. Никого, – повторил он решительно. – Они и не любят никого. Я даже не знаю почему, – прибавил он печально и вздохнул.– А летом они все, ну, компания там ихняя, даже специально топили кошек и со- бак, каких изловили. Как изловят, так сразу и утопят. Говорят, надо их топить, чтобы зараза не распространялась. Вон, совсем как эта говорила, – метнул он неприязненный взгляд в сторону дамы с сыном. Сын развлекался тем, что бросал камешки в голубя, которые подбирал с земли. Мать, заметив это, принялась снова отчитывать его, но не за то, что бросал камни в птицу, а за то, что испачкал в грязи руки. Этот живой комочек нисколько её не интересовал.
– Ты что же, очень любишь животных? – Теперь уже Андрей задал ему вопрос, движимый любопытством к этому мальчишке.
– Так вы тоже их любите, – хитро прищурившись, ответил он.
– Хм, с чего это ты взял?– в свою очередь удивился Андрей.
– А вы добрый. Вы дали мне пять копеек и ни о чём не спросили.
Андрей рассмеялся:
– Ну, брат, ты уже стал комплименты рассыпать. Этак у нас с тобой получается как в басне, – ты меня похвалил, я тебя и всё по пустякам. Это не серьёзно. Может, у меня сейчас хорошее настроение. – Ну почему не серьёзно, – воскликнул он. – Я правду вам сказал… Сначала я спросил у одного дяди и потом у тёти, так они не дали, а стали спрашивать, почему я не в школе. Сказали, что хорошие дети сейчас учатся, а не в кино деньги выпрашивают у незнакомых людей. И всякое такое... говорили...
Он обиженно замолчал. Было видно, что ему неприятно это говорить, но он потому сказал, что это было правдой. Андрей усмехнулся про себя: «Смотри, какой правдолюбец! Да ты просто молодец!» и потрепал его по плечу:
– Ну-ну, не сердись, я не хотел тебя обидеть. Хотя, признаться, этот вопрос меня тоже интересует, – почему ты не в школе?
Мальчик вскинул голову, поправил шапку и поспешно ответил, будто боясь, что я ему не поверю:
– Честное слово, ну, честное слово нас отпустили сегодня раньше. Наша учительница заболела... Голос его дрогнул. Было видно, что тщательно скрываемая обида сейчас выплеснется наружу. В глазах мальчика стояли слёзы, но он, шмыгая носом, не опускал лица и только смотрел в сторону. Андрей понял, что так взволновало его знакомца. То, что он своим видом не очень-то внушал доверие тем, к кому обращался и, чувствуя это, его самолюбие жестоко страдало. – Да ты что, вот тебе и раз, – примирительно сказал Андрей. – С чего это ты вдруг, не по-мужски так. Давай кончай, – и, чтобы отвлечь его от грустных настроений, спросил: – Если тебе так нравится лечить животных, то, когда вырастешь, наверное, станешь ветеринарным врачом?
– Нет, я не хочу быть ветеринарным врачом. Я ещё не знаю, кем хочу быть. Ведь не всегда получается так – кем хочешь быть, тем и становишься. Вон Борька космонавтом хочет стать, а он им не станет, точно вам говорю. Он дурной и дерётся. Нет, он им никогда не будет, – убеждённо повторил мальчик.
На этот раз он не стал искать подтверждения правоты своих слов у сидевшего рядом с ним взрослого человека. Может быть, ему не хотелось разъяснять, кто такой Борька, почему и с кем он дерётся и вообще посвящать в свои дела. А, может быть, с него было довольно и того, что он сам был убеждён в своём мнении. Они оба замолчали. Андрей разглядывал своего соседа, а тот, погруженный в свои мысли, сидел неподвижно, сосредоточенно глядя перед собой. Но через минуту мальчик соскочил с парапета, сдёрнул с головы шапку и распахнул пальто:
– Так жарко сегодня, просто страшно жарко! Я ведь не хотел надевать пальто и шапку, но мама сказала, что утро холодное и заставила их надеть. Кольке с Юркой хорошо, они большие и ходят в школу, в чём хотят. Школа у нас рядом с домом, братаны даже зимой без пальто ходят. Раз-два и в школе!
Хорошо, когда всё рядом, правда?
– Пожалуй, – согласился я. – Живешь-то ты где?
– А на Шелепихе, тут недалеко, знаете?
Андрей признался, что не знает. Его признание показалось мальчишке даже удивительным, – как можно не знать, что такое Шелепиха?
– У нас летом так хорошо! Мы на заливе строим плоты и устраиваем бой. Купаться там здоровски! Когда проходит теплоход, на волнах так подбрасывает, что дух захватывает!
Приятные воспоминания оживили его. Он, стоя перед Андреем, маленький, в налезшей на глаза шапке, в неуклюжем пальто, размахивал руками, показывая что-то. Андрей ещё говорил с мальчишкой о делах пацаньих. Мальчонка рассказывал о своих обидах, о знакомых ребятах, о том, что они не всегда берут его с собой играть. Судя по тому, как сбивчиво и волнуясь, торопливо выкладывал он взрослому человеку все свои проблемы, Андрей понял, что этот малыш очень одинок в своей, ещё короткой, но уже такой сложной жизни. И когда он спросил его о родителях, мальчик вдруг поскучнел:
– Мама работает в одном институте, она там убирается.
– Ну, а отец?
– У меня нет папы, – сказал он, с преувеличенным вниманием выковыривая что-то носком ботинка из асфальта. – Он лётчиком был и погиб.
И потому, как получилось у него это, натянуто и фальшиво, Андрей понял, что его отец относится скорее к той категории «погибших» отцов, о которых матери скороговоркой упоминают своим детям, не желая признаваться им в другой, жестокой правде, щадя их детское самолюбие. Незаметно подошло время начала сеанса и Андрей, вставая, сказал:
– Ну, пойдем, пора. По-моему, уже пускать начали.
Но мальчик почему-то вдруг замялся и, не глядя на него, ответил:
– Я потом, вы идите, мне тут надо ещё... побыть.
– Ну что ж, дело хозяйское, раз надо – значит надо.
Андрей, признаться, не совсем понял, что за дела такие задерживали его на улице, но расспрашивать не стал.
В фойе кинотеатра стоял оживленный и весёлый ребячий гомон. У витрин выставки кукол и декораций к фильмам собрались кучки ребят. Они что-то шумно обсуждали, узнавая свои любимые персонажи. К ним присоединялись взрослые, солидно высказывая свое мнение. В общем, царила та атмосфера, какой нет ни в одном другом кинотеатре. Народ всё прибывал, а его маленького знакомца пока не было. Только после третьего звонка, уже сидя в зале, Андрей увидел мальчика. Тот, запыхавшись и торопясь успеть на своё место, пробирался между сидевшими. Усевшись, мальчик сдёрнул с головы шапку и завертел головой. Увидев Андрея, он улыбнулся довольно и таинственно. Большей информацией им обменяться не удалось. Погас свет и на экране, сменяя друг друга, стали проходить маленькие, незамысловатые сюжеты. То комич- ные и смешные, то грустные и серьёзные, лёгкие и яркие, они заставляли зал замирать то от восторга, то от ужаса, взрываться смехом или задумываться над возникшей ситуацией, – так или иначе, равнодушных в зале не было. Но всё же, каково было удивление Андрея, когда он случайно по-смотрев в сторону мальчика, увидел, что тот и не смотрит на экран. Он хорошо видел освещённое голубоватым светом лицо, склонённое немного вниз, спокойное и совсем отсутствующее. Мальчик просто не смотрел на экран. Будто ничего из того, что происходило на нем, его не интересовало. Мальчик был словно погружен в какие-то свои думы. Это становилось, по крайней мере, странно. Ведь то, что свершалось на экране, не могло не заинтересовать кого бы то ни было. Андрей был заинтригован необычным поведением мальчика. Ему даже показалось, что он смотрит на что-то, спрятанное у него под пальто.
По окончании сеанса, когда зажегся свет, шумная ватага детворы устремилась к выходу, толкаясь и тесня друг друга. Взрослые выходили позже и неторопливо, как и полагается взрослым людям в компании детей. Но маль- чик продолжал сидеть и поднялся только тогда, когда последние зрители уже вышли в коридор. Я встал и, подойдя к нему, спросил:
– Ну как фильм? Так понравился, что хочешь остаться на второй сеанс? Пойдем брат, ничего не поделаешь. Вон на нас контролёры уже поглядывают.
Мальчонка поднял глаза и покачал головой. Его серьёзный взгляд сказал Андрею, что эта реплика была излишней:
– Я и не собирался оставаться. Я хотел дождаться, когда все уйдут, чтобы нечаянно его не притиснули.
Мальчик приоткрыл на груди пальто. Андрей увидел у него за пазухой того самого голубя, что лежал у стены.
– Так ты что же, не смотрел фильм?
– Нет, почему, я смотрел, только неинтересно сегодня что-то было. Пойдемте, – предложил он, и мы вышли на улицу. Яркое солнце брызнуло в глаза, и мальчик зажмурился.
– Правда, хорошо на улице? – спросил он. И, не дожидаясь моего ответа, прибавил:
– Я не мог его оставить. Понимаете, мне так хорошо, а ему плохо, значит – это плохо, ну, понимаете меня?
Андрей улыбнулся какой-то виноватой улыбкой:
– Конечно, понимаю, ты прав...
Он замолчал, не зная, что сказать ему дальше. Андрей вдруг почувствовал себя неловко, словно был виноват перед ним, этим голубоглазым мальчишкой. Они стояли и молчали.
– Ну ладно, мне пора, – по-деловому сказал он, нарушив молчание. – Надо идти, а то уроки ещё делать, ну и там разное... До свидания!
– До свидания. – Андрей протянул ему руку. Мальчик, крепко, не смущаясь, пожал её и, повернувшись, быстро зашагал к переходу. Андрей провожал взглядом его маленькую фигурку. Перед спуском он вдруг обернулся и, махнув Андрею на прощание рукой, побежал вниз.
Странное ощущение не покидало Андрея всю обратную дорогу. Чувство было такое, будто кто-то мягко и тепло коснулся его сердца, унеся часть тех грубых наслоений, отложенных на нём будничной, повседневной суетой. Он не узнал имени мальчика, но зато узнал в этот день, хотя и маленького, но уже большой души, человека.
Наконец-то, собравшись с духом, Василий Иванович, кряхтя от натуги, стащил с антресоли небольшой обшарпанный чемодан. Когда-то бывший коричневым, сейчас этот избитый годами странствий незаменимый предмет потерял форму, цвет, но, тем не менее, не утратил первозначимой ценности свидетеля его прошедшей жизни. Василий Иванович с некоторых пор с мистическим чувством думал, что их совместное существование находится в ведении каких-то неведомых сил. Иначе объяснить присутствие этого чемоданчика вот сейчас он не мог.
Сколько перипетий выпало ему в жизни, потерь и трагически-непредсказуемых ситуаций, а поди ж ты, чемодан, словно его вторая шкура, был всегда при нем. Даже в госпитале, куда его эвакуировали с передовой, чемодан не затерялся среди суматохи тех дней. Когда мать собирала его в дорогу на учебу в училище, Василий и представить не мог, что через полвека этот боевой товарищ станет хранителем самых значимых дат.
Откинув крышку, он достал из аккуратно сложенных пачек документов одну. Осторожно перебирая по очереди стопку бумаг, дойдя до ветхого, побитого по краям блокнотика, Василий Иванович начал листать полустертые страницы. Из блокнотика выпал листок, пожелтевший, весь в разводах масляных пятен. Текст почти выцвел, и на пятнах карандашные строки истончились до невесомой прозрачности. С трудом наклонившись, он поднял листок и, расправив мелкую сетку помятой бумаги, всмотрелся в едва различимый текст пятидесятилетней давности.
Прочитав, Василий Иванович грустно улыбнулся. «Черт те чем тогда была забита его голова!». Эти наивные, наполненные горячим, пульсирующие живым еще чувством, всколыхнули полузабытые страсти фронтовой юности. Кругом была война, смерть и страдания, потери друзей и близких, а у него в голове неотвязчивым ре-френом крутились мысли о Тане, своей любви, оставленной в непомерно далеком родном краю…
Ничто не могло заслонить мысли о ней. Василий исполнял все предписанные уставом и службой обязанности почти машинально. Два месяца прошло с тех пор, когда он в последний раз держал ее ладошку в своей руке, не в силах разжать пальцы. Состав уже дергался, чуть заметно набирая ход, и Гриша Дубровин орал ему: «Вась, все, все…», – а он стоял, как литой истукан, видя перед собой лишь наполненные слезами и страданием глаза Тани.
Может, они помогли ему выжить, породив в нем неистребимую жажду вернуться, еще хоть разок увидеть ее прекрасные глаза, услышать ее голос, прерывисто-страстно и нежно шепчущий: «Не надо, Васенька, не надо… не надо…».
И это, почти исчезнувшее стихотворение, он писал, лежа на нарах теплушки в первую же ночь такого длинного, ждущего впереди фронтового пути:
Обдирая последние листья,
Продувает зима черный лес.
Средь буранов и ветра посвистья
Не увидеть лазури небес.
Мне бы жить среди яркого света
И ходить по траве луговой,
Чтоб мечтать в стане теплого лета
О нечаянной встрече с тобой.
Одинокая песня вернулась
Дальним эхом с опушки лесной,
Болью сердце мое встрепенулось
От несбывшейся встречи с тобой.
Жги, тальянка, горюче рыдая,
Расскажи ей, как горестно мне…
Мое сердце, безмерно страдая,
Пропадает в любовном огне…
Странная смесь звуков одновременно не давала уснуть и завораживающе убаюкивала своей слаженной какофонией. Мерный перестук колес словно делил на части веселые выкрики солдат: «Смотри, Колян спит с открытыми глазами… Не, это он мечтает, чтобы к Новому году его наградили орденом… Да, точно, за убитый десяток мух на кухне… Не, братцы, за рекорд по нарядам вне очереди… Точно, медаль «За боевые заслуги!..».
Взрыв гогота и ржанья перекрыл скрип старой теплушки, грохот вагонных колес и гул от пролетающих мимо мостовых ферм. «Ну гады! Опять травят этого заморыша! Надо пропесочить на политзанятиях Лагутина, житья от него нет новобранцам… Прямо страсть к подначкам! Ну, ничего, походит у меня в ординарцах, присмиреет…».
Василий поплотнее прижал к уху шинель. Перед плотно зажмуренными глазами начали выстраиваться аккуратные строчки его дневниковых записей. Ровная вязь почерка была особой гордостью Василия. Много это стоило ему усилий и времени. Невнятная графика прежнего почерка за месяц претерпела такую невероятную метаморфозу, что учительница русского языка, долго всматриваясь в сочинение Василия, недоуменно качала головой. В доказательство обладанием каллиграфическим искусством ему пришлось написать несколько предложений на школьной доске. И когда за его спиной раздались легкие хлопки, перешедшие в аплодисменты, Василий понял вкус трудной, но такой сладкой победы. Учительница и весь класс аплодировали его достижению…
Строчки дневника то четко проступали из плена полусонного марева, то опадали невесомыми искрящимися хлопьями, как от дыхания на крепком сибирском морозце…
«…Она училась в параллельном восьмом классе, и, несмотря на полдесятка прошедшего с того времени лет, я настолько хорошо помню первую встречу с ней, что мог бы до мельчайших подробностей рассказать о ее прическе, выражении лица и глаз, об ее платьице и других мелочах ее туалета так, что как будто она вот сейчас стоит передо мной и терпеливо ждет, когда я, обалдевший, как перед каким-то сверхъестественным видением, изумленный стою перед ней с кружкой воды у бачка с водой.
Ее я помню отлично, а вот себя – нет. Вероятно, я выглядел не просто глупо, а сверх глупо. Что-то неуловимое в выражении ее лица, глаз, позе – нетерпение, недоумение, улыбка, наконец она сама – все вместе подействовало на меня так, что я, как неприкаянный, медленно-медленно, бессознательно ставил кружку с водой на крышку бачка, не сводя глаз с незнакомки, и не видел, что ставлю кружку мимо крышки, и она упала со стуком на пол. А я в каком-то блаженном страхе и ужасе, вероятно с таким, каким идет невинный человек, приговоренный на казнь, пятился назад и уже боле нечего не понял – я погиб. Что такое захлестнуло меня – горячее, волнующее, наполнило мне сердце: я видел перед собой богиню…
…Седьмой класс я закончил плохо, и особенно по математике. И дело было не в отсутствии у меня математических способностей, а в недостатке преподавателей: алгебру, геометрию и физику вела очень пожилая женщина: математику она рассматривала как нагрузку из-за отсутствия преподавателя.
Всю свою жизнь, начиная с гимназии, она преподавала немецкий язык, и это сильно сказалось на ее речи. Она слегка шепелявила, неясно произносила отдельные звуки, часто неверно строила предложения, в общем она, коренная сибирячка, говорила, как я потом понял, с легким немецким акцентом. Звали ее Аглая Никандровна, и своим отношением к преподаваемым предметам сумела привить мне такое отвращение к математике, и особенно к алгебре, что не было такого предлога, который я бы не испробовал, чтобы только не быть на ненавистных мне уроках. Попадало мне ото всех за мои проделки изрядно, но я был неисправим. Остальные же предметы давались мне легко и обычно, не готовясь, я отвечал только на «очень хорошо»…
Далекий взрев паровоза, череда толчков и раскачиваний теплушки закончились желанной тишиной. Остановка состава несколько удивила солдат, но не снизила накал их буйного веселия. «Чего они так веселятся?.. Зачем остановились?.. Еще одна тягомотина со стоянием в чистом поле…». Эти обрывки мыслей фоном промелькнули в голове.
Некоторое время Василий старательно пытался заснуть, но промаявшись еще с десяток минут, с досадой отбросил воротник шинели с головы. «Черт их подери!», – пробурчал он. Вздохнув, Василий свесил ноги с полки и уныло оглядел полутемное пространство теплушки. В дальней ее стороне виднелись короба с «дегтярями», стойки со стрелковыми оружием и минометные «трубы». Часовые, маявшиеся у стоявших в углу «максимов», с интересом прислушивались к солдатской пикировке…
– Вась, ты чего – не спишь?
Василий посмотрел в сторону двери, около кото-рой сидел его дружок, старший лейтенант Гриша Дубровин. Он с веселой ехидцей разглядывал недовольную мину на лице Василия.
– Уснешь тут… Ржут, как жеребцы!
– А я тебе что говорил? Иди лучше сюда, пошамаем малость. Жрать-то хочешь?
– Чего спрашиваешь? Недосып лучше всего лечить едой!
– На галету, погрызи. Все равно скоро двинемся, тогда на станции нас накормят.
– Да когда двинемся? Красный горит, как застыл! У машиниста не спрашивали, чего стоим?
– Бегали, да тот ничего не знает. Закрыли перегон и все.
– Да, видать не одни мы тут кучковались. Вон, видишь, сколько битой техники по сторонам навалено. Бомбили, небось, перед нами.
–Эх, столько добра пропало! Смотри, даже трупы лошадей лежат. Чего их не убрали?
– Не успели, наверное, – мрачно буркнул Василий. – До лошадей тут, когда составы прут один за другим. Наступление готовят основательно. Ох-хо-хо, сколько ребят поляжет, один бог знает!
– Ладно тебе, тоску нагонять. Лучше давай постреляем. Вон воронья на той дохлятине насело. Мишень что надо. Сразу видно, попал или не попал, если останется лежать на конине.
– А че, давай. Хоть чем-то развлечемся. На пачку махорки. Кто первый промажет, тот в накладе. Идет?
– Идет!
Офицеры стали бок о бок. Дубровин достал трофейный «вальтер», выменянный на какой-то станции у капитана из санитарного эшелона. Чуть красуясь, он вскинул руку. Первый выстрел не произвел на ворон никакого действия. Пара из них лишь встрепенула крыльями, да и то на мгновение.
– Вот заразы, привыкли, видать, к пальбе и грохоту! Ну, ничего, сейчас сниму одну.
Капитан тщательно прицелился и нажал на курок. На этот раз трепыхание одной из ворон всколыхнуло всю стаю. Стая тяжело снялась с трупа лошади и, галдя, закружила над ним.
– Ну, видал! – Григорий расплылся в самодовольной улыбке. – Твоя очередь. Посмотрим, какой из тебя ворошиловский стрелок.
– Не говори гоп… – пробормотал Василий, тщательно прилаживая рукоять пистолета в ладони. Он дождался, пока вороны успокоятся и неторопливо поднял пистолет. Прицеливался он долго, зная, что самообладание Гриши не рассчитано на столь долгую задержку. Но Василий намеренно не спешил. Следующий выстрел был за Дубровиным, а потому пусть подергается, быст-рее промажет. Дождавшись, пока тот не закряхтел от нетерпения, Василий плавно спустил курок. Одна из птиц, неловко подпрыгнув, опрокинулась набок. Стая немедленно снова поднялась на крыло.
– Я тут чуть не родил, ожидая, когда ты изволишь сделать выстрел. Вон и ворона окочурилась по причине твоей медлительности.
–Хм, наверное она сдохла от твоего психа. Давай, твоя очередь. Посмотрим, кто проиграет. Пачка махры с тебя.
– Ух ты! Прямо уже заранее расписал!
Сидевший неподалеку усатый, в годах, солдат недовольно пробурчал про себя, но так, чтобы его слышали:
– И не жалко некоторым животин стрелять…
Дубровин удивленно повернул голову.
– Разговорчики, рядовой! – Но все же, чувствуя какую-то неловкость, добавил: – Нам нужны тренировки, вот и стреляем.
–Знамо дело, тольки скоро настреляисси ишшо… досыть…
–Займись делом, солдат. Нечего судить о делах командиров.
Григорий вскинул «вальтер» и, чуть прицелившись, выстрелил. Среди ворон ничего не произошло. Они продолжали неторопливо клевать мясо лошади, перемещаясь по трупу, как по пиршественному столу, степенно и с достоинством хозяев такого богатства. Василий спокойно констатировал:
– Как я и говорил, махра моя.
– Брось, это не считается. Ветер дунул сильно, поэтому и пуля мимо прошла. Я буду стрелять еще раз.
Василию пачка махры была бы кстати, но дразнить Гришу ему не хотелось. Пусть стреляет еще раз. Все равно, его табачок частенько оказывался в самокрутке Василия.
– Ладно, давай. Плохому танцору всегда что-то мешает.
Григорий молча забрал пистолет. На этот раз он прицеливался гораздо тщательнее, но выстрелить не успел. Перед вагоном появился ординарец полковника.
– Товарищ старший лейтенант, вам приказано прибыть немедленно в штаб. Можете идти со мной прямо сейчас. Остальные уже собрались.
– Чего случилось?
– Не могу знать, товарищ старший лейтенант. Знаю, что связисты получили какое-то сообщение из штаба армии.
– Вась, подожди, я сейчас приду. Можешь пока потренироваться. – Держи.
Григорий протянул пистолет Василию и лихо со-скочил на насыпь. Василий сунул «вальтер» за ремень и посмотрел другу вслед. Он думал, что Гриша слишком горяч, чтобы быть командиром роты. Василий перевел взгляд на длинный, весь в поздних травах, луг, раски-нувшийся до голубевшего вдали леса, и вдруг ощутил, что все простиравшееся перед ним пространство уже давно и близко ему знакомо. И этот луг, и лес вдали бы-ли словно картинкой из его детства и юности, из дале-кого родного сибирского края…
«…Чувство, с которым я шел в первый учебный день девятого класса, я не берусь описать. С одной сто-роны, желание увидеть ее, посмотреть на ее прекрас-ное лицо, походку, услышать ее милый, глуховатый, с легкой хрипотцой голос, было так велико, что только при одной мысли об этом у меня сладко замирало в ка-кой-то истоме сердце и подкатывало к горлу. А с другой стороны, стыд и позор жгли меня от одной только мыс-ли, что я посмел написать ей такие оскорбительные слова, с которыми можно и достойно обращаться только к богиням. Мне казалось, что большего кощунства не может быть, как обращаться к ней со словами призна-ния в любви для простого смертного и ничтожного че-ловека, каким был я.
В этот день я походил на человека, находящегося в состоянии ожидания сверх блаженства… И в тоже время, я походил на преступника, ожидавшего смерт-ной казни за тягчайшее преступление…
Василий очнулся от истошного крика. Он оглянулся.
– Етит твою кучкину мать! – орал, выпучив глаза, сержант. – Черт криворукий! И куда смотрел твой папаша, когда делал тебя?!
Около сбитого из досок стола, на котором были разложены части «Максима», пританцовывал Волокушин. Зажав руку под мышку, он яростно обкладывал матом понуро стоящего рядом рядового Никандрова.
– Отставить мат, – крикнул Василий. – Что у тебя случилось?
– Да этот раз…здяй уронил мне на пальцы короб!
– Сержант, ты это… кончай материть. Покажи, что у тебя с пальцами.
Волокушин со страдальческой миной вытащил ла-донь из подмышки и протянул ее к Василию. На пальцах виднелись кровоточащие ссадины и содранная ко-жа. Пулеметный короб при падении на руку мог и не такое с ней сотворить. Восемь кило угловатого железа – пренеприятная вещь! Василий сам имел возможность однажды получить такое удовольствие. Потому он понял, что Волокушин не придуряется, чтобы лишний раз смотаться в медсанчасть, располагавшуюся в середине состава, как раз перед теплушкой с кухней.
– Понятно. Быстро в медвагон и тут же обратно. Никаких забегов на кухню. А ты, Никандров, за членовредительство получай три наряда вне очереди. А пе-ред этим десять раз собрать и разобрать пулемет. Повтори!
– Есть собрать и разобрать пулемет десять раз и получить три наряда вне очереди… – хмуро пробурчал Никандров.
– Что? Не слышу!
– Есть собрать и разобрать пулемет десять раз и получить три наряда вне очереди, – вытянувшись в струнку, проорал Никандров.
– Выполнять!
В вагон одним махом вскочил ротный:
– Ну, все, хватит муштровать! – сходу бросил он. – Сейчас нам всем мало не покажется. Предстоит марш-бросок на Карпушино.
– А чего так? – вскинул брови Василий.
– Полчаса назад, ровно столько, сколько мы торчим здесь, немцы разбомбили станцию. Там не принимают составы. Так что приказ по бригаде – спешиваться и маршем отбыть на место дислокации. Полковник распорядился, чтобы ни одна собака не вздумала проволынить. Не то грозил трибуналом, расстрелом на месте и всякой такой ерундой.
– Надо полагать, собаки – это мы?
– А то кто же!
– Вот мамашины блины! До Карпушино только от станции пятнадцать верст! И отсюда до станции версты четыре, не менее…
– Да чего там! Гунди не гунди, надо срочно поднимать роту и выкатываться на построение. А то наш полкаша первый прибежит – икру метать. О, слышишь, раструбились уже.
Василий и сам услыхал рассыпавшиеся коротким стаккато сигналы горнистов бригады. Их поддерживали частые паровозные гудки. Крики взводных, отдающих команды, гул солдатских голосов, сливающихся с глухим лязганьем выгружаемого оружия, выкатываемых по настилам пушек, повозок с хозимуществом и ржаньем лошадей складывались в знакомый поток воинского сбора. Василий стоял у вагона и, хотя видел эту картину уже много раз на длинном пути от Томска до фронта, всякий раз что-то нереальное посещало его мозг. Он видел огромную силу. Несчетное количество солдат, мощное оружие, которым была вооружена его бригада, никак не вязались с той катастрофической ситуацией на фронте, о которой говорили бывалые фронтовики, возвращающиеся на формирование, и раненые с санитарных эшелонов.
Ни фронтовые сводки, ни многочисленные разговоры никак не могли убедить Василия в реальности происходящих событий. Он смотрел на могучую армию, выстраивающуюся вдоль насыпи, и думал: «Если выстроить нашу бригаду шеренгой по фронту и дать залп, всего один залп из оружия, что мы имеем хотя бы вон по этому лесочку, то на его месте образуется ровное поле, усеянное деревянной трухой. Что же такое эти фашисты, что против них такая мощь все равно что спичка против огнемета… Значит, дело не в оружии… Плохо, что ли, воюют наши войска… Этого не может быть…».
Василий сорвался с места и заорал на солдат, несших вдвоем щит от «максима»:
– Не надорветесь – по двое таскать? Совесть бы поимели! Ты, Суконцев, неси его дальше, а ты, Ломоногов, пойдешь со мной. Такому облому и плита минометная как ложка! Ложкой, небось, управляешься? Вон, от ротного миномета, взять – и за мной!..
Слаженная суета выгрузки бригады как ни казалась длительным действом, все же через полчаса была закончена полностью. Бригада выстроилась побатальонно, метрах в двухстах от опустевшего поезда. Полковник на большой каурой лошади проскакал до конца состава. Убедившись, что выгрузка прошла штатно, он широко махнул рукой, будто отсекая что-то, и состав, медленно набирая скорость, двинулся задним ходом на ближайший разъезд. Среди стоявших в построении солдат, от взвода к взводу, весело прошелестело: «Ишь, наш полкаша каков… бравый рубака!.. Прямо-ть, сабельки не хватаить!..».
– Разговоры отставить! – обернулся Василий к взводу. – Старшина, смотреть за порядком!
– Так точно, товарищ лейтенант. Я вить им рты-то не позакрываю, а присмотрю, кто самый говорливый, и как прибудем, подарю наряд вне очереди…
– Смирно, равнение на середину, – оборвал сентенцию старшины зычный голос майора. Выйдя на встречу подскакавшему полковнику, он кинул руку к фуражке и отрапортовал:
– Товарищ полковник, отдельная, Н-ская стрелковая бригада, в полном составе готова к маршу. Жду вашего приказа к началу движения. Доложил майор Зи-мин!
– Вольно! Товарищи бойцы и командиры! Командование поставило нам задачу: занять оборону на участке Тупилино – Карпушино. Станция с час назад была разбомблена налетом немецкой авиации. В связи с этим нам предстоит маршем пройти до места дислокации и сходу занять передовые позиции по линии фронта. Идти предстоит скорым темпом, по проселочной дороге, больше половины из которой проходит по лесным просекам, но, несмотря на это, все отставшие будут рассматриваться как бойцы, сознательно уклонившиеся от поставленной командованием задачи, то есть, как дезертиры. Обо всех происшествиях в ротах докладывать мне немедленно. Приказываю – батальонам начать движение по маршруту. Командуйте, майор.
… По исходу третьего часа колонны стали растягиваться в неровную гармошку. Василий, отставая от переднего края своего взвода, ждал отставших. Обод-ряя хмурых солдат, он иногда помогал подтаскивать тяжелые опорные плиты минометов, пулеметные станки и толкать из ям, через коряги, застрявшие телеги. Вскоре раздалась так давно желанная команда: «Батальон, стой! Привал пятнадцать минут. Всем оправиться, ротным проверить наличный состав». Строй мгновенно рассыпался по ближайшим кустам. Несколько минут в лесу слышались весьма чуждые для него звуки. Василий присел на сваленный обрубок ствола и с наслаждением закурил. В табачную нирвану, в которую он погрузился, как в парную воду, стали внедряться некие возгласы, преимущественно на повышенных тонах. Василий открыл глаза и повернул голову. Неподалеку несколько солдат обступили одного и с веселыми подначками общались с сидевшим. Василий встал и, подойдя к ним, спросил:
– Что за митинг?
– Да вот малой копыта сбил. Надоть было портянки ловчее крутить! Правильно говорят – дурная голова ногам житья не дает!
– Ладно, всем разойтись…
Василий уже видел размер случившейся беды. Недомерок-заморыш, даже фамилию его было трудно вспомнить, кажется Килинкаров, из недавнего пополнения, сидел с разутыми ногами и, глядя на Василия больными, собачьими глазами, тихо говорил:
– Товарищ лейтенант, я не хотел, не знаю… как так получилось… я не знаю…
– Ну, что, Вась, чего случилось? – спросил подо-шедший Дубровин.
– Да вот, этот… недотепа, умудрился стереть ноги до мяса!
– М-да, – взглянул старший лейтенант на багровые подтеки и в сердцах бросил:
– Ну что с ним будешь делать?! Оставь его здесь, пусть расстреляют как дезертира!
– Точно, – буркнул Василий, – одна с ним головоморочка!
Сидевший на пне солдат, белобрысый, с торчащим на затылке пуком ежистых волос, уныло уставился перед собой, разглядывая истертые до крови пальцы ног. Вся его фигура выражала покорность и бесконеч-ную усталость.
– Почему он без пилотки? Где твоя пилотка, боец? Отвечать!
Старший лейтенант навис над дохлой фигурой солдата, как паук над спеленатой мухой.
– П-пот-терял, – заикаясь, еле слышно проговорил страдалец.
– Вот недоразумение! Повоюй с такими! Ну вот что с ним делать?!
– А чего делать? – едко сказал Василий. – Затолкаю в середину взвода, чтоб никто из начальства не увидел, и пусть босой, как пастушок, с сапогами на плечах, идет дальше. Неровен час, меня тоже под статью подведет! А как же, командир не досмотрел – значит виноват.
– Ладно, – нехотя согласился Дубровин. – Хотя его надо бы в медсанчасть, на повозку, да там все они забиты имуществом. Ну, действуй…
Ротный повернулся и зашагал к головному взводу. Василий окликнул сидевшего неподалеку сержанта:
– Волокушин!
Сержант неторопливо поднялся и, подойдя, отдал честь.
– Вот что, Волокушин, видишь это недоразумение? Как двинемся, запхай его в середину взвода и приглядывай, чтобы он не потерялся по дороге. Уж больно он способен на всякие выверты!
Волокушин вытер усы и усмехнулся:
– Ниче, товарищ лейтенант, не потеряется… Разрешите идти?
– Давай, – в безнадежном жесте махнул рукой Василий. – И выдай ему какие-нибудь обмотки, хотя бы ветошь. Пусть замотает ноги…
Мне было только девятнадцать лет, но я смотрел на нее глазами много видевшего человека, и горькое недоумение не давало мне возможности ответить на вопрос: «Что же увидели мои глаза и почувствовало сердце в той пятнадцатилетней девчонке, что в ней было такого сверхъестественного для меня, пятнадцатилетнего, чем она сумела так поразить мое воображение и преобразить меня до неузнаваемости?!». Ведь она осталась почти что такой, нисколько не изменившейся! Тот же курносый нос, пухлые, даже очень пухлые щеки, белесые ресницы, редкие волосы, короткие толстые пальцы и неуклюжая, полноватая фигура?
Что же изменилось за три года? Да ничего! Но тогда почему же три года назад этот курносый нос, пухлые щеки, полноватая неуклюжая фигура, весь ее облик вызывал во мне такое волнение, неизъяснимое наслаждение от одного только взгляда на нее, порождал тихую, ласковую грусть и заставлял меня краснеть, умилиться, трепетать, звал куда-то ввысь, мог заставить совершить невероятное ради нее, сделать такое, о чем я сейчас и помыслить не могу?!
На это у меня нет ответа, да и, вероятно, никто не сможет ответить…
…И все же это необъяснимое вскоре завладело мной всей силой необузданной юношеской страсти. Я вновь утонул в стихии любви, уже другой, обретя в ней, моей Тане, смысл всего земного существования. Туман восторженного чувства кружил мне голову. Я стал нелюдим, неохотно вступал в разговоры со своими сверстниками, моя рассеянность стала слишком очевидна. Мама скоро заметила это ненормальное состояние… Мысли о Тане ни на минуту не давали мне покоя. Даже во сне я страдал от неразделенного чувства. Объясниться с ней было выше моих сил. Но и оставить все так я был не в состоянии. Скоро я уеду, и она никогда не узнает о моей великой любви… Так нельзя, это несправедливо!..
Василий шел сбоку колонны и размышлял о тех днях, зацепивших и перевернувших всю его натуру. О таких страстях до того момента он и не подозревал, считая все разговоры и читанное в книгах про любовные страдания надуманными и приукрашенными разными краснобаями и писателями. К своим пятнадцати годам он перечитал почти всю школьную библиотеку, по тогдашним возможностям довольно скудную и претенциозную. Но он разыскал пути к иным источникам книжных запасов и, уже не отрываясь, поглощал литературные шедевры запоем.
Умерший рано отец почти не оставил в его памяти какой-либо значимый для него след. Но мать, работавшая воспитательницей в детском саду, весьма поощряла вдруг проснувшийся интерес ее единственного дитяти к чтению. Поговорив с некоторыми из родителей, она деликатно и дипломатично указала Василию, где он может разжиться желанными книгами. В арсенале ее приемов были неоднократные просьбы к сыну отвести чье-либо чадо к запаздывающим родителям, то оказать услугу хорошим людям, отвезя им тачку с углем, что само по себе в то время было должностным преступлением. Но Василий этого не знал, и потому охотно тащил драгоценный груз по указанному адресу. А там добрые хозяева угощали его чаем, и глава семейства, подведя к объемистому шкафу, доверху набитому толстыми томами с золотыми буквами на корешках, давал порыться в этом богатстве. Уходя, Василий непременно уносил с собой одну из желанных книг, которую ему любезно давали прочитать до определенного срока…
Солнце, давно ушедшее за верхушки деревьев, щедро залило розовой эмалью длинные, тонкие перья облаков. По длинной просеке посреди осинника потянулись первые тяжи тумана. Василий с удивлением смотрел, как люди будто плывут по белому полотну. Лесная подстилка скрадывала шум передвижения массы солдат и повозок, отчего казалось, что в сумрачном вечернем свете эти плотные тени возникают ниоткуда и уходят в никуда. Он шел рядом с этими призраками и думал, что и сам есть среди них такой же бесшумный и призрачный, как древний леший из русских преданий. В какой-то момент к сердцу подкатил спазм озноба и перетряс Василия от макушки до пят. Ему показалось, что не немцы, ждущие их впереди, а нечисть лесная есть их главный страшный недруг. «Черт, померещится же такое…».
Через несколько минут деревья отступили и колонна вышла на обширную опушку. Свет вечернего солнца развеял нечаянные страхи Василия. Он оглянулся. Остатки его роты вытягивались из тьмы леса. «По-о-дтянись, батальон, на месте… стой! Повзводно разобраться… Привал… привал…».
Звонкий голос майора смел последние остатки мистических видений. Малышев вздохнул и подумал, что уж лучше было бы воевать с призраками, что народу удавалось с успехом целыми веками, чем истреблять всякую двуногую нечисть, хрен знает зачем припер-шихся на их землю…
– Вась, иди сюда!
Поодаль стоял Дубровин и призывно махал рукой. Малышев зашагал к нему.
– Ну что, еще малость отдохнем. Почти двена-дцать километров за два часа отмахали!
Григорий устало, но с бодряцкими интонациями в голосе обозначил их успешный марш.
– Еще почти столько же шагать, – вздохнул Малышев. – Хорошо бы до темноты выйти на большак. А то на этой просеке все ноги посбиваешь об коряги да пеньки.
– По трехверстке вроде осталось пару километров до него. Там легшее будет. Садись, будем вечерять.
К ним подошел Белов и с хитрой улыбкой спросил:
– Чем богаты?
– Ну ты даешь! – хмыкнул Малышев. – Галеты, сахар да вода. Будто у тебя не тоже самое.
– Это у кого как! – расплылся в улыбке Аркаша. – А вот это не видели?!
Он вытащил большую банку тушенки и торжественно поставил на расстеленную тряпицу.
– Откуда?
– Места надо знать. На последней станции я у старшины интендантской роты колоду карт выменял на эту баночку. Хотел оставить до лучших времен, чтоб закусончик соорудить по случаю, но вижу – сейчас в самый раз будет. Так что, налетай, братва.
Несколько минут сосредоточенного жевания были прерваны возникшим из-за куста лейтенантом.
– Малышев, к комбату.
Василий прожевал кус, обернулся на голос ординарца майора и буркнул:
– Не успели поесть, как шило выскочило из мешка… Случаем, не знаешь зачем?
– Не, – мотнул головой лейтенант, – собирает всех политработников. А зачем – не в курсе.
– Ладно, иду.
Василий кивнул и, глядя в спину уходящему ординарцу, сказал:
– Я, мужики, как раз про дом вспоминал. Ни одного письма еще не получил.
– А чего ты хочешь, если мы чистых десять дней в пути да на переформировании уже с полмесяца? Куда тебе их слать? Вот прибудем на место, тогда получим все сразу ворохом.
– Ха, хорошо бы. Мать у меня хворая, какие-то женские болячки у нее. Я когда уезжал, видел ее тоскливые глаза. Так в сердце защемило, что жуть. Она меня ведь одна воспитывала. А я не подарок был…
– Да ладно тебе, – недоуменно покачал головой Григорий. – Чего разнюнился? Все будет в порядке. Наших родных не оставят в беде, позаботятся. В общем, иди, а то получишь хороший кусок нуднятины в виде полковничьей нотации.
– Да… ну да… – отстраненно ответил Василий и поднялся. – Пойду. У комбата найдется, чем взбодрить. Не иначе, как сюрприз какой-то готовят. Чует мое сердце, не видать нам отдыха после марша.
– Не каркай! – недовольно сморщился Григорий. – Иди уж, кликуша!
В палатке комбата стоял приглушенный гул разговора. Среди находившихся здесь политработников он увидел своего земляка, лейтенанта Петю Трифонова, как и он сам, замполита второй роты. Василий подошел и тихо спросил:
– Привет, Петь. По какому случаю аврал?
Румянощекий Трифонов, только недавно нацепивший еще один «кубарь», вздернул плечи:
– Сам не знаю. Вроде слышал, что получен приказ прямо с марша занять оборону у Карпушино. Там намечается ночная заваруха.
– Вот черт! Люди устали.
– Вот и я о том же. У меня во взводе половина обожралась какой-то лесной дряни. Теперь бегают в кусты прямо на марше…
– Товарищи офицеры, прошу внимания…
Василий не заметил, как в палатку вошел Баталин. Комбат был озабочен и сумрачен. Пройдя за сколо-ченный из обдирных досок стол, он вытащил карту. Разложив ее на столе, майор ткнул в карту пальцем и сказал:
… – Получен приказ по бригаде, по прибытии на место дислокации без промедления, сходу поддержать готовящееся наступление. Назначено оно на четыре утра. В нашем распоряжении есть резерв в три четверти часа. За это время провести в ротах короткие политзанятия и инструктировать рядовой состав на предмет полной готовности к ведению боевых действий.
Баталин помолчал и добавил:
– Я знаю, что вы хотите сказать. Да, люди устали, пройдя двенадцать километров… А потому прошу всех собрание провести продуктивно и в минимально короткое время. Бойцам надо дать отдохнуть. Товарищ капитан, – повернулся комбат к сидевшему рядом замполиту Карпову, – вас я попрошу не задерживать офицеров долго. Все знают свою задачу, а поэтому можно ограничиться общей вводной. Все свободны.
Возвращаясь в роту, Малышев не задумывался, что будет говорить своим бойцам. В большинстве своем они были уже обстрелянные, бывалые солдаты. На них можно было положиться, но из нового пополнения были и такие, что глядя на них можно было подумать, что они и в глаза не видели строевой подготовки, а уж оружия и в руках не держали. «Много выбило людей…» – со вздохом подумал Василий. Он вспомнил свое первое формирование, еще там, в Сибири, в Томске, где он, выпускник Белоцерковского пехотного училища, с лей-тенантскими погонами досрочного выпуска, с невероятным задором и жаждой битвы в сердце, принял в ко-мандование отделение вновь формируемого состава Н-ской отдельной стрелковой бригады.
А накануне, в училище состоялось партийно-комсомольское собрание. Молодые лейтенанты глядели на стоявшего на сцене Малышева, читающего стихи собственного сочинения, а он, чуть наклонившись, как бы посылая свою крепко сбитую фигуру в пространство навстречу судьбе, резким жестом сжатой в кулак ки-стью отбивал ритм горячего стиха:
Сталин в сердце моём, мне не жизнь дорога,
Мы на битву вдвоём с ним пойдем на врага,
Нас на подвиг страна, честь и совесть зовет!
Командиры, вперёд! Командиры, вперёд!
В нас священный огонь никогда не умрет!
Нас не сломит беда, вражьих бесов орда!
Да за Родину в бой Сталин нас поведёт!
Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!
Пусть как клич пролетит «над Отчизной беда!».
Мы услышим, поднимемся все на врага,
И фашистов сметем, как речной ледоход!
Командиры, вперёд! Коммунисты, вперёд!
В зале заведённые лейтенанты, в едином порыве подхватили: «Мне не жизнь дорога, Сталин в сердце моем…», и пять сотен глоток, стуча в пол сапогами, ревели: «Командиры, вперёд! Командиры, вперёд!..».
Когда Малышев сбежал со сцены, из-за стола президиума поднялся начальник училища. В его глазах стояли слезы:
– Сынки, родные мои! Как я хотел бы сейчас быть рядом с вами, стать во главе ваших рот и повести на врага!.. Бейте нечисть так, как вас просит товарищ Сталин, как указывает наша родная коммунистическая партия, как молит о том наш многострадальный народ! Таких, как вы, победить нельзя! Сибиряки, покажите вашу мощь и силу духа! Нет такого врага, который бы устоял перед вами. С нами победа, победа будет за нами!..
Крики «ура» чуть не обрушили старенькие своды зала. Молодые лейтенанты, в едином порыве скандировали: «Мы фашистов сметем, как речной ледоход! Командиры, вперед! Коммунисты, вперед!..»…
Эта картина быстро тускнела и таяла. Василий не понимал, почему он вдруг оказался в каком-то волшебно-загадочном краю. Он чувствовал, что не спит, видел, как ходят вокруг него солдаты хозвзвода, разносящие пайки и котелки с дымящейся кашей. А вдали, в сумрачном свете, скрывающем стену темных древесных стволов, ему пригрезилось лицо Тани, ее серые глаза с тоскливой печалью глядели на него в немом вопросе. «Да, да… – прошептал Василий, – я знаю, что ты хо-чешь спросить… Я думаю о тебе все время, я не забыл тебя… Посмотри вокруг, эти солдаты через час вступят в смертельный бой и я поведу их на врага. Но ты не бойся, я выживу… я вернусь… Таня… Таня…».
Перед Василием вдруг открылся яркий, утонувший в потоках солнечного света день, который он пе-ред отъездом из отпуска провел с Таней. Они гуляли за поселком, в лугах, заросших высокой, по пояс душистой, пряной до головокружения травой. Это время превратилось для него в один сплошной поток блаженного ощущения. Он смотрел на ее тонкую, воздушную фигурку, летящую над ярко-цветным многотравьем, и сладкие спазмы невыразимой нежности обливали его сердце. Вечер приблизился в оглушительном стрекотании кузнечиков, в порывах далекой музыки ветра и душистого запаха вечерних цветов. Перед ними выросла времянка, в которой косари хранили свои нехитрые принадлежности и отдыхали во время сенокоса. Не сговариваясь, они вбежали в просторный сарай и с разбегу бросились на сено, позабытое с прошлых покосов.
– Васенька, я устала, давай отдохнем здесь. Здесь так хорошо…
– Ну, конечно. Я сам с удовольствием поваляюсь на траве. В последнее время не часто приходилось просто так валяться и ни о чем не думать.
– А вот и нет! – засмеялась Таня. – Просто так лежать я тебе не дам. Помнишь, ты обещал мне почитать свои стихи. Я хочу прямо сейчас их послушать.
– Какие стихи? Я уже давно не писал ничего. Некогда было. А те, что писал раньше, могут тебе не понравиться. Они в общем-то про кое-какие чувства…
– Вот и хорошо. Я страсть люблю слушать про какие-то чувства, тем более, что я догадываюсь – какие.
– Ну, это… конечно, про любовь… Я прочитаю тебе как умею, ты не смейся… Если не понравиться, заткни уши…
Василий набрал воздуха и выдохнул первый звук, будто бросаясь в холодную воду:
Каплей меда сладкого
На твоих губах
Мне наградой станется
Поцелуй впотьмах. Уловил желание
Тайное твоё,
Было в том послании
Сердца маятьё. Не брани поспешно,
Что застал врасплох.
Не сама ты грешная,
Это я не плох. Пряным духом стелется
По лугам трава.
Пьяным вихрем веется
Буйна голова. В сердце разыгрался пыл,
Жар души полет…
ттого, что сладок был
Поцелуя мед…
– Ну, что? Не понравилось? – почему-то шепотом спросил Василий. Таня молчала, и только ее глаза странно блестели, словно светились в полумраке. Василий выдохнул и пробормотал:
– Наверно, я никогда не стану поэтом…
Договорить он не успел. Таня, изогнувшись тонкой тростинкой, прижалась губами к его губам. Охнув, Василий сжал руками ее плечи. Кружилась голова и кровь стучала в висках тяжким молотом, но оторваться от сладких девичьих губ у него не доставало сил. Он только почувствовал, как Таня, упершись ему в грудь, оттолкнула от себя:
– Дурной, я задохнулась совсем! Ты меня задушил бы сейчас!
Василий, шально поводя глазами, мотнул головой:
– Не, это я… от неожиданности! Прости, я не хотел…
– Хороша твоя неожиданность! – хмыкнула девушка. – Хотел не хотел, а плечи болят, будто в стенку торкнулась.
Василий поник головой и вздохнул:
– Ну, теперь тебе стихи и даром не нужны… А я хотел еще почитать, может эти тебе понравятся.
– Васенька, да ты что, откуда ты взял, что мне не понравились твои стихи? Такие душевные, прям по сердцу прошлись. Читай, дурачок, еще. Ты настоящий поэт, такие стихи я только в книжках читала.
– Ну, ладно. Только ты не бросайся на меня больше. Я за себя не ручаюсь. Вдруг и вправду что выйдет!
– Я те выйду! Читай! – сердито прикрикнула Та-ня.
Закрыв глаза, Василий чуть помедлил, как будто собираясь с духом. Но тут же тихо и строго начал:
Я горю, как свеча,
В урагане любви,
Но об этом тебя
Хоть моли не моли. Ты на все отвечала
Презрительным «Нет».
И как нож ты вонзала
Холодный ответ. Падал ниц до земли
Сколько раз пред тобой,
Только думы мои
Выше неба порой. Среди звезд, что горят,
Есть две милых звезды,
То очей твоих взгляд,
Свет ночей череды. Я ловлю этот свет
И в душе сохраню,
Жажду слышать в ответ,
Как признанье: «Люблю…».
Проснулся Василий от шума. Мельканье сапог и фигур людей в предрассветной мгле скользили мимо его сознания. Что-то, какое-то шевеление рядом привлекло его взгляд. Он увидел на плащ-палатке, которой был прикрыт лапник, сидящего около лица мышонка. Тот грыз галетные крошки и бусинками глаз смотрел на Василия. На его мордочке смешно двигались тоненькие прозрачные ниточки усиков. Мышонок по-деловому сгрызал крошку за крошкой, и его нисколько не беспокоило дыхание лежащего рядом человека. Василий не мигая смотрел на это крошечное создание, которому война не война, а прикорм выпал, и в этом было его счастье. Может быть, он никогда и не услышит ни разрывов, ни выстрелов. Эта маленькая жизнь даже и не подозревает о страстях, бушующих над его головой. «Счастливый…». Кто-то прошел рядом и спугнул мышонка.
– Товарищ лейтенант, вставайте, вас ротный тре-бует к себе.
Василий узнал голос Степы Лагутина. Он что-то буркнул в ответ и сбросил с себя шинель. В это время послышались команды к построению. Василий встал и огляделся. Пара десятков минут, которые он провел в провально-коротком сне будто изменили все вокруг. Серая предрассветная мгла уже не скрывала окрестности. Лес, казавшийся далеким, подступил к ним сплошной темной стеной деревьев и густого подлеска. Вокруг Василия торопливо выстраивались в маршевую колонну солдаты его взвода. Он вздохнул и направился к головному взводу, откуда слышался голос Дубровина: «Шевелись, ребята! Живей! Куда тебя понесло, трындит твои потроха!..».
– Товарищ старший лейтенант, лейтенант Малышев прибыл по вашему приказанию.
Дубровин наклонился к уху Василия и прошептал:
– Вась, только что по спецсвязи получен приказ сходу атаковать позиции немцев около Карпушино. Тамошняя дивизия через полчаса перейдет в наступление. У нас на весь бросок до деревни есть час. Пять километров надо протопать, будто черт сам гонится за нами. Иди во взвод и надрючь своих, чтобы ни один не вздумал выкинуть какой-нибудь фокус. За любое промедление – расстрел. Это приказ командующего. Уяснил серьезность задачи?! – И, не дожидаясь ответа, добавил: – Дуй к себе…
Всю дорогу Василий был словно в трансе. Отвечал невпопад Дубровину, не слышал вопросов старшины, и его сомнамбулическое состояние вызвало иронические подначки солдат: «Наш лейтенант, видать, еще не слез во сне со своей бабы…».
К Карпушино подошли, когда совсем рассвело. Уже издалека были слышны залпы пушек и мелкая, разливистая пулеметная дробь. Сухая винтовочная трескотня часто глушилась разрывами гранат, и протяжный стон человеческого «у…а…ра…а…а» вливался в общую картину начавшегося боя.
Батальоны, спешно разворачиваясь в цепь, сходу ворвались в первые линии немецкий окопов, где уже кипела яростная, ревущая матом и звериным рыком человеческая масса. Василий видел, как солдаты его взвода, выдирая из полуобвалившихся траншей серо-зелёные фигуры немецких солдат, валили их на влажную от крови и предутренней росы землю. Стоны и хрипы людей, смешиваясь с лязганьем стали, будили в нем нечто темно-злое, безумный инстинкт первобытной силы, который захватывает все существо в стремлении выжить.
Бойцы в едином порыве атаки гнали немцев за пределы деревни. Но, нарвавшись на немецкую контратаку танками, залегли, спешно окапываясь, благо мягкая, вспаханная недавно земля давала им шанс на спасение, поддаваясь яростным усилиям вгрызться в нее как можно быстрее. Танки находились в паре километров за деревней, в лесочке, а потому несколько минут форы дали возможность солдатам укрыться. Послышались глухие, налитые скрытой мощью выстрелы противотанковых ружей.
Тугой удар волны от разорвавшегося снаряда сбросил Василия на дно неглубокого окопчика. Лопнувший от удара о землю ремешок не удержал свалившуюся с головы каску. Но в последнем клочке исчезающего сознания Василий увидел рванувшуюся навстречу смерти тщедушную фигурку Килинкарова. С безумными провалами глаз на белом лице, прижав к груди связку гранат, он бежал на надвигающуюся массу железа и огня, а около его ноги серой змейкой металась полоска развязавшейся опорки. Пулемет танка бил без перерыва, но так и не свалил тщедушное тельце солдата на землю. Взрыв потряс вокруг все. Стальная махина, будто ткнувшись в непроходимую преграду, мгновенно застыла на месте. На мгновение показалось, что люди перестали стрелять, пораженные не столько чудовищной мощью разрыва, сколько мерой высоты человеческого духа…
Василий пришел в себя от тормошения. Он увидел наклонившегося к нему Степу Лагутина, его широко открытый рот, и едва различимые слова достигали его слуха будто через плотный слой ваты:
– Товарищ лейтенант, вставайте, вас контузило?
Василий замотал головой и, несколько раз втянув воздух через нос, сморщился от подступившего головокружения:
– Ниче, нормально… сейчас все будет в порядке. Где наши?
– Отбились мы. Танки пожгли бронебойщики. Один подорвал этот… Килинкаров. Сам в клочки. Ничего не нашли… А я вас искал.
– Кто еще убит?
– Не знаю. Видел мельком, санитары несли кого-то из офицеров, но кого – не различил. Вам бы в медсанбат показаться...
– Гха…– с натугой выдохнул Малышев. – Помоги встать. Каску давай.
Поднявшись, Василий подставил лицо налетевшему порыву прохладного ветра. Он ощутил знакомый запах жженого железа, едко-кислый аромат тротила и горелого мяса. Помотав головой, он обернулся к Лагутину.
– Пошли.
В деревне они нашли избу, над которой было вывешено полотнище с красным крестом. Поднявшись на крыльцо, Василий спросил у сидевшего на приступке в сенях и бездумно высасывающего из полупотухщей «козьей ножки» остатки дыма, пожилого хирурга Пал Семеныча. Он боялся спросить прямо об убитых, потому задал вопрос обиняком:
– Пал Семеныч, кого сегодня зацепило?
– Твой дружок счастливчик, – устало хмыкнул Пал Семеныч. – Чуть ниже – и дырка во лбу. А так царапина. И то через каску, больше контужен, чем ранен. Сейчас его перевяжут и он выйдет.
– Кто еще?
– Из офицеров никого. Остальные вон там лежат. Старшина пишет медсвидетельства на них.
– Спасибо, Пал Семеныч. Век бы сюда не попадать.
Василий сплюнул через плечо и сбежал с крыль-ца. Он увидел около сараюшки сложенные тела солдат и сморщился: «Много…». Василий обернулся к Степе Лагутину, стоявшему поодаль с суровым, потемневшим лицом:
– Сержант, иди во взвод, Возьми пару солдат и пройдись по деревне. Подыщи избу и доложи мне. Найдешь меня в штабе. Иди, выполняй.
– Есть, – глухо проронил Лагутин, приложив руку к каске.
В штабе было накурено, грязно и тесно. Малышев присел на краешек скамьи у входа с ведром с водой. Взяв кружку, Василий зачерпнул холодной, прозрачной воды и с наслаждением припал к ней. Допить ему не дали.
– Малышев, подойди.
Комбат сидел за дальним краем стола с перевязанной кистью правой руки и что-то писал.
– Это у тебя во взводе солдат подорвал танк?
– Так точно, товарищ майор. Рядовой Килинкаров.
Комбат кивнул сидевшему рядом лейтенанту:
– Пиши, представить к «Красной звезде», посмертно. Какие у тебя потери?
– Пятеро убитых и семь легкораненых. Еще двое тяжело.
– Ну, это терпимо. У других хуже. Вторая рота на треть похудела.
Комбат поморщился, задев рукой за приклад автомата, лежащего на краю стола.
– Ладно, иди устраивайся. На сегодня будет с нас драки. Немчура притихла и до утра не побеспокоит. Можешь идти.
– Есть!
Василий протиснулся сквозь толпившихся у стола офицеров батальона и вышел на улицу. Яркое солнце заставило его прищурить глаза. Малышев чуть подождал, затем огляделся и увидел спешащего к нему ординарца.
– Товарищ лейтенант! Я нашел одну хату и поставил около нее двух бойцов. Дом хороший, чистый с виду, но там есть одна закавыка!
– Что еще кроме пуль и осколков может быть закавыкой? – устало пробормотал про себя Василий и уже громче сказал:
– Веди, разберемся…
– Да там одна ветхая старушенция, стала как дот, с палкой в руке, и не пускает внутрь дома.
– А что так?
– Бормочет что-то, не разберешь…
У изгороди, прямо перед калиткой, находившейся сбоку массивных, о двух створках ворот, стояли оба красноармейца. По ту сторону калитки стояла сгорбленная, вся в черном, старуха, и, выставив перед собой клюку, трясла ее перед лицами солдат.
– Чем старуха недовольна? – подойдя, спросил Василий.
– Не знаем, товарищ лейтенант, – хором ответили оба солдата. – Говорит, вроде, что у нее в избе смерть сидит.
– Вот те раз! Да где же она сейчас не сидит! Ну-ка, посторонитесь, разберемся с ее смертью.
Василий открыл калитку и смело двинулся на пляшущий перед ним кончик корявой палки.
– Что, мать, мои бойцы обидели тебя? Почему не пускаешь в дом?
Ветхая старушка почему-то сразу приняла его за начальника, и потому дрожащим от испуга голосом зашептала:
– Ты бы, паренек, не ходил бы в дом. Я сама тута просидела всю ночь. Не ходи... не надо тебе идти в дом. Лютая смерть там…
– Ну вот мы и посмотрим, какая-такая лютая смерть так тебя напугала! Ты, бабуля, не бойся, наши уже здесь, Красная армия в деревне. Если что у тебя в доме не так, я разберусь.
Василий широким шагом двинулся к крыльцу. Поднявшись, он уверенно взялся за ручку входной двери. Войдя в сени, Малышев обернулся к семенившей позади старухе:
– Нет тут никого, бабуля. Может тебе что-то приснилось…
– Да ты что, внучек, господь с тобой… не входи в комнату. Там он…
Василий усмехнулся, взялся за ручку двери и покачал головой:
– Хорошо, посмотрим и…
Он не успел договорить, как через дверь, обитую листовой резиной, с резким звуком прорвался огромный тесак. Его лезвие, пройдя через шинель в миллиметре от бока, отдалось неожиданным толчком в сердце. Василий, еще не осознав опасности, мгновенно отскочил за притолоку двери и рывком распахнул ее. По ту сторону стоял огромного роста немец в расстегнутом мундире. В руке он держал винтовку с пристегнутым к ее стволу штурмовым тесаком.
Василий не рассуждая бросился вперед и, схватив винтовку, рванул ее на себя. Немец грузно качнулся и, теряя равновесие, завалился на Василия. Сцепившись, они лихорадочно отбивали руки друг друга в попытке схватить за горло. Немец, смрадно дыша тяжелым перегаром в лицо Василию, был сильнее и массивнее. Придавив Малышева, он дотянулся до горла Василия и сжал его, словно кузнечными клещами. Василий смог тоже прорваться к горлу немца. Сдавливая толстую, словно ствол миномета, гортань фашиста, он понял, что ничего сделать не сможет. С полминуты ему удавалось вертеть-ся под тушей двухметрового немца. Постепенно красная марь стала заливать его глаза. Сердце бешено колотилось в груди, отдаваясь в голове звенящими ударами. Оно отзывалось еще в одном месте на груди. Василий чувствовал какой-то предмет, давящий ему на ребра. Он не понял сразу, что это может быть, но когда осо-знал, горячая волна обожгла его мозг. «Вальтер!..». Малышев в последнем усилии, уже теряя сознание, просунул руку под отворот шинели и вырвал пистолет из-под тела немца. Как он стрелял, что было потом, Василий уже помнил с трудом. Единственно, что он почувствовал, как стало легко дышать, и горячую, пульсирующую струю, хлынувшую на лицо.
Вбежавшие солдаты сбросили с него тело фашиста. Василий с трудом поднялся. Звон в ушах мешал ему слышать, как Лагутин кричал другим: «Проверьте комнаты, может кто еще затаился…».
– Товарищ лейтенант, с вами все нормально?
– Порядок, Лагутин, – с отдышкой проговорил Малышев. – Ну и дела... Чуть богу душу не отдал… Если бы не этот «Вальтер»…
– Вот, возьмите тряпицу, оботритесь… Лицо у вас все в крови.
Лагутин взял из рук старухи белую тряпку и протянул ее Василию. Пока Малышев с судорожной брезгливостью оттирал кровь с лица и шеи, до него доносился невнятный старушечий говорок.
– …Его вчера вечером принесли и положили на кровать. Пьянай он был сильно, прям в беспамятстве. Я забоялась оставаться с ним в доме. Ужасть, как он ночью орал и скрипел зубами… Страсть господня! Я убралась в сени, а как светать начало, стрельба пошла, так я и в продух в стене глянула. Немец все спал, а потом вскочил, когда страшно затрясло избу от взрыва. Он высунулся в окно, а потом заметался, как мыша под чугунком. У него был большой портфель. Ткнул он его за печь и сам, видать, схоронился гдей-тоть. Когда солдатики начали шуметь, я вышла, чтобы упредить их, да и упустила, где изверг спрятался…
Изба как-то вдруг набилась солдатами его и других взводов. Все недоверчиво осматривали огромную тушу немца и качали головой в сомнении – как такой невысокий и малой телом их лейтенант вышел живым из-под рук такого бугая.
Дубровин, глядя на Василия, с веселым изумлением протянул:
– Н-да-а… А если бы мы не стреляли тогда ворон, не разговаривали бы сейчас с тобой…
– И то правда… – пробормотал Василий, – я забыл про него. Положил во внутренний карман тогда, еще в эшелоне.
– А я, думаешь, помнил? Дел навалилось сразу столько, что собственные штаны забудешь надеть, не то что про какую-то железяку помнить! Оружие ведь не штатное, так, цаца для удовольствия.
– Хороша цаца, жизнь мне спасла! Гриш, отдай мне его. Я теперь эту цацу пуще глаза буду хранить.
Дубровин хлопнул Василия по плечу и рассмеялся:
– Для дружка и сережку из ушка! Бери и пользуйся!
Их разговор оборвало негромкое покашливание:
– Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться к товарищу лейтенанту?
– Обращайся!
Дубровин с усмешкой глянул на хитрую рожу Лагутина:
– Я тут… – замялся солдат, – я, по такому случаю, можно сказать, смертного избавления товарища лейтенанта, принес для… ну, это… силы восполнить.
– Ну, чего ты слова мнешь, как девка платок! Говори прямо, чего у тебя?
Малышев кивнул на руку, которую Лагутин держал за спиной.
– Да я ничего… это вам, так сказать, от взвода.
Лагутин вытащил руку из-за спины и протянул фляжку.
– Тута спиртику немного. Ребята в медсанбате достали. Хотели для себя, да вона какой случай! Говорят, неси взводному, ему сейчас в самый раз будет…
– Все? – оборвал его Дубровин. – Давай сюда. А сам марш во взвод. И чтобы к возвращению лейтенанта дом был готов к его отдыху! Понял меня, солдат?!
– Не, ты видал! Твои бойцы прямо няньки какие! Эт хорошо, что спиртик. Пошли ко мне, я соображу закуску. А то ты мятый какой-то, будто из-под бревна вылез, какие у нас на делянках валили. Хорошо же он тебя помял! Как ты живой еще остался?! И ведь сообразил насчет пистолета. Я бы от страха в штаны наделал и с тем бы предстал перед Господом! Вот срамно-то было бы! Ха-ха–ха… – закатился Дубровин.
Малышев смотрел на друга и легкая улыбка скользнула по его губам. Пусть веселится… Если бы он знал о том ужасе, который замутил ему голову… И только какое-то неявное чувство чего-то высшего побудило его не ослабнуть и не сдаться. Верно Таня думала о нем в это время… Иначе для него не нашлось бы ничего бо-лее сильного и яростного в стремлении не поддаться врагу, чем мысль о ней. Малышев не знал, что он думал в мгновения жестокой схватки, но сейчас он думал об этом именно так.
– Малышев, зайди к полковнику, – окликнул его капитан Карпов. – Поторопись, если хочешь урвать кусочек славы.
– А зачем, Петр Сергеевич?
– У него узнаешь.
В избе, где расположился штаб бригады, уже находились комбат первого батальона, замполит бригады и начальник первого отдела. Едва Малышев вошел, он вскинул руку к козырьку фуражки и отрапортовал:
– Товарищ полковник, лейтенант Малышев прибыл по вашему приказанию!
Полковник Старухин встал из-за стола и, чуть наклонив голову, с улыбкой спросил:
– Как себя чувствуешь?
– Чувствую себя хорошо, – бодро ответил Василий, продолжая держать руку у козырька.
– Ладно, руку можешь опустить. Проходи, садись. Рассказывай про свои подвиги.
– Товарищ комбриг, я не знаю, что рассказывать. Завалил немца, и то только потому, что он был с сильнейшего похмелу. Так от него разило, что у меня еле достало сил не захмелеть от его дыхала. Пришлось ликвидировать поскорее…
Сидевшие за столом офицеры рассмеялись.
– Ну герой, герой, – довольно пробасил комбриг. – И твое геройство обернулось трижды нам выгодой. В том портфеле, что нашли в избе, содержались такие документы и сведения, что цены им нет по нынешней оперативной обстановке. Объявляю тебе благодарность от лица командования. Будешь представлен к ордену «Отечественная война» второй степени. Приказ уже мной подписан. Есть у тебя какие-нибудь пожелания или просьбы?
– Никак нет, товарищ комбриг. Мне бы чуток отдохнуть. Устал малость.
– Товарищ полковник, лейтенант Малышев был сегодня во время боя контужен, но из боя не вышел. И показал себя тактически зрелым и умелым командиром.
Комбат Баталин посмотрел на Василия и продолжил:
– В его взводе меньше всего потерь. К тому же один из красноармейцев ценой своей жизни подорвал прорвавшийся на позиции танк. Все происшедшее изложено мной в рапорте к представлению лейтенанта Малышева на поощрение отпуском.
– Ну что ж, разумно. Пока у нас затишье, пусть на два дня получит увольнительную в город…
Василий Иванович, чуть прикрыв веки, глядел в окно. Ярко-красные сполохи кленовых ветвей, мечущихся от резких порывов осеннего ветра, проявили в памяти те горячие, сумасшедшие по накалу и страсти дни. Так же было и тогда, такие же красные листья лежали на груди его дружка, Гриши Дубровина, когда его вынесли из боя. Уже в медсанбате Гриша, держа его руку в своей лихорадочно дрожащей руке, шептал запекшимися от жара губами: «Живи, Васька, ты уже… оплатил свой счет… у нее…».
В отпуск Василий так и не поехал. Наутро жестокая и долгая бомбежка предварила мощное немецкое наступление. Силы были неравны. Истерзанная изматывающей обороной, понеся большие потери в людях и технике, бригада с боями отступала. Хмурые и усталые солдаты, меся грязь, зло матерились, проклиная фашистов и тяжелый солдатский труд. Но они отступали с надеждой вернуться. У каждого из них была своя надежда, дающая силы выжить и победить…
Василий, зажав в руке маленький треугольничек письма от Тани, как молитву повторял: «Я думаю о тебе все время, я не забыл тебя… Ты не бойся, я выживу… я вернусь… Таня… Таня…».
Целый день Алешка был напряжен и взвинчен. Ожидание поездки на море, наконец-то, подошло к концу. Но предчувствие ка-кой-то неприятной случайности, как это бывало уже не раз – то колесо спустит, то отцу срочно понадобилось перебрать что-то в моторе «Запорожца», то мама, укладывая вещи по чемоданам, разражалась причитаниями по поводу отсутствия какой-то тряпки, без которой она ехать на отдых не может – заставляло его мучиться до последней минуты.
Сегодняшний вечер преподнес сюрприз намного серьезнее и коварнее. Младший, Витька, вдруг закапризничал, загундосил и маленькая его рожица стала приобретать цвет вареной морковки. Мать озабоченно щупала его лоб, пичкала порошками и каплями, но к позднему часу брат все равно проявлял неумолимые признаки жестокой простуды.
Мать и отец, с тревогой осматривая свое болезное дитя, в раздражении набрасывались друг на друга с криками: «Это ты его накормил мороженым! Говорила, не давай, так куда там!» – с отчаянием вскрикивала мама, всем своим видом показывая, что виновник срыва отпуска не есть ее неразумное чадо, а только он, муж-недотепа, скормивший детям по огромной порции пломбира. «Да ты сама, что ли, не знала, какой Витя хиленький! Я тебе говорил – не давай ему пить холодное молоко! Помнишь, утром…», – огрызался отец.
Самому же Алешке не было никакого дела до причины, по которой его неразумный братец вздумал заболеть. Он страшно обозлился на Витьку – вздумал такое выкинуть, чтобы только навредить ему. Алешка знал вредный характер братца, а потому пребывал в полной уверенности, что тот нарочно сожрал и мороженое, и наглотался холодного молока. И теперь, по его милости, накрывается такая долгожданная поездка к морю.
Но все ужасные предчувствия, как и напрасные треволнения родителей утром развеялись как прошедший беспокойный сон. Витька встал бодреньким, егозливым непоседой и, глядя на него мать, с облегчением вздохнула: «Ну, слава Богу!.. Пронесло!».
Собрались вмиг, без лишней суеты, благо с вечера родители, причитая и перебраниваясь, дело делали – все нужное было загружено, приторочено на крыше и уложено в пасть «Запорожца», благо багажное отделение этой превосходной машинки находилось спереди, под его капотом.
В шесть утра, по распоряжению отца, не желавшего ехать по жаре ни минуты, они выехали со двора. Раннее утро, беспокойная ночь и пережитое волнение сделали свое дело – дети через полчаса уже спали сном невинных агнцев. Мать тоже дремала, но в полглаза, не доверяя своему супругу такое ответственное дело, как вести машину. В минуты сомнения в правильности выбранного действия мужа, она, выбрасывая перед его носом маленькую, изящную ручку с неумолимо-стью милицейского жезла, вскрикивала: «Вася, ну ты что! Не видишь, что этот идиот несется … Не надо обгонять их, мотор слабенький, пусть они торопятся к своему концу. А мы потихоньку доедем…».
Алексей в свои одиннадцать ясно понимал написанное на лице отца упрямое нежелание дать себя обогнать какому-то «Москвичу». Ну и что, что их машина – «инвалидка», выданная отцу как инвалиду войны! Он не понимал, что в ней плохого и был влюблен в эту горбатую коробочку со всей страстью и пылом первого чувства.
Дорога Алешке была знакома. Две предыдущие поездки оставили в его памяти только бесконечную серую ленту, которая почему-то никак не хотела кончаться. Ночи они проводили в степи, которые начинались уже к вечеру первого дня. Он хорошо помнил свой восторг от огромного, бездонного купола черного неба, усеянного ярчайшими блестками разноцветных огней. Эти огни были так близки к нему, что Алешку поначалу подмывало встать и запустить в эти многоцветные рои камешек. Он прекрасно знал, что сбить звезду нельзя, но нетерпение его было столь сильным, что он зажмуривал глаза, пытаясь хоть так угомонить свое несбыточное желание. А едва он смыкал веки, как сон делал свое дело и Алешка, просыпаясь утром, ничего не помнил о своей страстной мечте.
Перед первой ночью, когда вечер сгустил воздух до мерцающей сини, отец съехал на обочину.
– Все на сегодня, почти семьсот километров отмахали. Катя, выходи и поищи съезд, а то я что-то из машины не вижу.
Жена скоренько выскользнула из машины и ее белое платье ярким факелом засветилось в свете фар. Алешка вознамерился было выбраться вслед за матерью, но отец упредил их:
– А вы сидите в машине, не то заблудитесь, где вам потом искать. К утру одни косточки от вас останутся, волки и лисы живо с вами разделаются. Слышите, как они воют в степи.
– А как же мы будем ночевать? Они что, нас не съедят разве? – в ужасе всхлипнул Витька.
– Нет, нас они не тронут. Я с вами, а они взрослых бояться, – с хитрой усмешкой ответил отец, старательно выруливая за белым платьем Катерины.
Алешка вдруг испугался, что мама заведет их в какое-нибудь место, где полным-полно волков и лис. Она-то не знает этих хитрых и коварных зверей. Сам Алешка хорошо изучил их страшные повадки по сказкам, которые читал во многих красиво раскрашенных книжках. Он обеспокоенно повернулся к отцу:
– Пап, а мама не попадет к волкам и лисам в пасть? Она ведь там одна идет.
Отец очень смешно издал несколько кашляющих звуков и, отдышавшись, сказал:
– Не бойся, мой хороший. Там, где мама, там диких зверей нет. Они ее боятся до смерти. Когда мама впадает в обструкцию, мне иногда самому становится страшно, хуже даже, чем было на войне.
Почувствовав ту силу убеждения, с какой отец произнес эти слова, Алешка сразу обрел уверенность и спокойствие в благополучном исходе ночевки. Он обернулся назад, на Витьку – не слышал ли братик последние слова отца, но тот уже давно, (по частому выражению мамы в адрес отца) «дрых, как сивый мерин».
Спустя полчаса родители уже устроились в небольшой палатке рядом с «Запорожцем». Детей уложили в машине на откинутые сиденья. В этом Алешка усмотрел еще одну прелесть путешествия, а потому с удовольствием наслаждался тонко-терпкими запахами машинной атмосферы. Через открытое окно в двери Алешка прислушивался к шепоту родителей, которые, судя по настойчивым интонациям матери, что-то выясняли. Но надолго его сил не хватило. Он заснул почти сразу же, даже не заметив этого.
Катерина, весьма расстроенная сообщением мужа о своем желании заехать к месту захоронения своих однополчан, достигла критического накала, убеждая Василия отложить эту поездку.
– Вася, тебе обязательно нужно делать такой крюк? Ведь считанные дни, да еще деньги на бензин нужны! Это ведь с полсотни километров будет, – туда-сюда, да на еду и воду. Ты бы подумал, ну, может, когда поедем назад, а, Вась, ты что молчишь?! Или тебе все равно, как мы будем добираться?! Жить «дикарем» тоже денег стоит немаленьких. Это ведь не пансионат, все готовенькое… ты слышишь меня?
Катерина ткнула мужа в бок. Василий нехотя повернул голову:
– Конечно, слышу… Только вот на обратном пути заехать не получиться. Я даже не знаю, на сколько мы еще можем рассчитывать пробыть у моря. Алешке в школу нужно собираться, времени в обрез, да у меня начнется запарка на работе. Ты ведь знаешь, с каким боем мне пришлось выбить это время на отпуск. И то через военкомат помогли. А то…
Он замолчал. Жена недовольно хмыкнула:
– Да кому нужны твои сантименты! Был бы какой юбилей, или приглашение на встречу однополчан, как в позапрошлом году! Нет, твоя самодеятельность, чувствую, боком нам выйдет…
Катерина продолжала еще что-то сердито шептать, но Василий уже не слышал ее. Он смотрел в окно машины, где на фоне сплошной черной тьмы, словно на экране, возникали неясные тени. Они проявлялись, становились отчетливее, приобретая реальные очертания, в которых он уже ясно различал тех, с кем в том, сорок третьем году, в такое же жаркое лето задыхался в окопах от смрадного дыма, пыли и жары …
Наутро он поднялся молчаливый, сосредоточенный и по-деловому строгий. Алешка хотел было по обыкновению присоседится к осмотру, но отец коротко приказал: «Марш в машину». Еще не совсем рассвело, как они спешно выбрались на шоссе. Яркая полоска зари, обещавшая жаркий день, залила красным оттенком всю лежащую окрест местность.
Почувствовав какое-то напряжение меж родителей, Алешка, прижавшись к окну, разглядывал скучный, однообразный пейзаж, с унылой однотонностью убегающий назад. Брат тоже помалкивал, погруженный в дремоту.
Смотря на поджатые губы матери, Алешка не мог понять, почему она так недовольна. Он не долго пребывал в своем недоуме-нии. Через час с небольшим отец вдруг сбавил ход и стал сосредоточенно выглядывать что-то впереди. Заметив съезд, он притормозил и осторожно двинулся через крутой спуск обочины к проселочной дороге.
Алешка повертел головой и тихо спросил:
– Ма, а куда это мы?
Мать хмыкнула и раздраженно буркнула:
– Спроси у своего отца. Он тут рулит, а мы ему только в обузу!
– Почему? – удивился Алешка
– Сиди, узнаешь!
Алешка скривил обиженную гримасу и снова отвернулся к окну. Приставать к отцу во время движения ему было категорически запрещено, а потому оставалось только ждать.
Его ожидание затянулось надолго. Степь, разбавленная отдельными купами деревьев, низкорослым, чахлым кустарником постепенно приелась взгляду. Алешка сквозь наплывавшее на глаза ма-рево видел себя уже у моря, несущимся навстречу волнам и в бесконечно долгом плескании в набегающих крутых горах соленой воды…
Через волнительные своим приятством картины к его сознанию пробился посторонний шум. Алешка тряхнул головой и огляделся. Они стояли на проселочной дороге. Отец уже находился вне машины и разговаривал с каким-то мужиком, сидевшим на телеге. Тот оживленно тыкал кнутом в сторону чуть видневшейся вдали небольшой рощицы. Отец согласно кивал и продолжал расспрашивать этого странного, заросшего густой щетиной мужика.
Наконец, все разговоры были закончены. Мужик взмахнул кнутом и, прервав энергичное лошадиное мотание головой, резво тронул прочь. Отец некоторое время стоял в раздумье. Мать, не выдержав такой неопределенности, выскочила из машины и нетерпеливо спросила:
– Вася, ну что? Едем?
– Едем… – ответил отец. – Вот только куда? Мужик сказал, что захоронение перенесли вон за ту рощу, ближе к станице. Вот, черт, незадача! Через это поле нам не проехать. Придется делать крюк вокруг станицы. Только там есть дорога к мемориалу.
– Господи, что это все у нас не как у людей! – воскликнула мать. – Что ты уперся: годовщина, годовщина! Детям каждый лишний час у моря – год здоровья, а тебе наплевать на них! Лишь бы потешить свой характер!
– Ладно, Кать, садись, – холодно оборвал ее отец. – Десяток километров погоды не сделают…
Впрочем, дорога через станицу вышла не совсем накладной. Мать, своим практичным взглядом высмотрела сидевших вдоль дороги торгующих теток и старушек разными станичными припасами. Вскоре они продолжили путь, прилично нагрузившись черешней, больше похожей на небольшие яблоки, помидорами, величиной почти с Витькину голову, огурцами, салом, сметаной и еще чем-то, чего Алешка так и не понял – в двух больших бутылях плескалась чуть мутноватая жидкость.
Отец с превеликой аккуратностью обмотал бутыли тряпкой и уложил в багажник. Мама, сморщившись, будто у нее вдруг заболели зубы, предупреждающе сказала:
– И не рассчитывай до моря даже на глоток! Вылью все до капли!
Отец с преувеличенной готовностью стал заверять в своем полном согласии:
– Да ты что, Катя! Конечно, только по приезду! Просто это про запас! Где там на месте купишь его за такую цену! Это ж сколько вышло экономии! Посчитай сама!
– Нужна мне твоя экономия! Тебе бы только дорваться!..
Место, к которому так стремился отец, открылось внезапно. За небольшим изгибом проселка, едва кончился кустарник, открылась хорошо ухоженная площадка, в центре которой, огороженной простой железной оградой находился квадрат из побеленного бордюра. Квадрат был засажен цветами, через который вела выложенная белым камнем дорожка, к возвышавшейся посреди квадрата небольшой стеле.
Метрах в пяти от ограды Василий остановил машину. Некоторое время он сидел молча, смотря перед собой через стекло. Катерина, не обращая на мужа внимания, выбралась из машины и, откинув сиденье, скомандовала сыновьям:
– Ну-ка, выбирайтесь!
С радостными криками мальчики высыпали на траву. Витька, словно заведенный, размахивая руками, начал выписывать круги вокруг «Запорожца». Алешка, в силу своего возраста, не желая уподобляться младшему брату, степенно подошел к калитке в ограде и потрогал замок.
– Мам, замок закрыт!
– Иди сюда. Отец сам разберется! А вы быстренько мойте руки и садитесь. Не то черешня пропадет на такой жаре.
Алешка, обойдя машину, увидел расстеленный на траве большую тряпку. На ней уже стояла в объемистой бутыли вода, лежали несколько узлов и алюминиевые миски.
Пройдя процедуру умывания, мальчики уселись и с нетерпением уставились на черешню, которую мать тщательно прополаскивала в куске марли. Алешка на миг оторвался от созерцания процедуры омовения плодовой вкусности и бросил взгляд в сторону машины. Он увидел, как отец выбрался из салона, подошел к ограде памятника и остановился. Что-то необычное показалось ему в поведении отца. Отец, опустив голову, словно поник, стал меньше, ниже ростом, будто какой-то невидимый груз опустился ему на плечи.
Уплетая сочные, бордово-черные черешни, Алешка краем глаза следил за тем, что делает отец. Тот, постояв в раздумье перед оградой, подошел к калитке и тронул замок. Алешка увидел, что замок чудесным образом оказался в руке отца. Распахнув калитку, отец, тяжело опираясь на палку, внимательно высматривал место, куда ее поставить. Вымощенная дорожка подстерегала его неровно положенными камнями и ямками.
Алешка на стал ждать, когда отец подойдет к четырехгранной стеле. Засунув последние ягоды за щеки, он вскочил и побежал к мемориалу.
– Пап, подожди, я тоже с тобой!
Отец оглянулся. Алешка шустро проскочил расстояние и осторожно ставя ноги, обутых в легкие сандалики, пробрался по острым граням крупной щебенки к отцу.
– Иди осторожнее. Камень острый. Кому-то лень было привезти мелкой щебенки, взяли этот по дешевке, как полуфабрикат. Пошли.
У стелы отец и Алешка остановились. Отец подошел к памятнику. Перед ними, на наклонной каменной доске белого цвета тусклым золотом отсвечивало много фамилий. Сверху, большими брон-зовыми буквами была выложена надпись: «Хома Исидорович Карпенко», и чуть ниже, более мелко, – «танкист – старший лейтенант». Внизу аккуратными рядами, по шесть в квадрате, шли остальные фамилии. Они были словно выстроенные на параде солдаты. По крайней мере, так показалось Алешке. Он наклонился и прочитал первую попавшуюся на глаза: «Гуськов П. И. мл. серж.».
– Па, а что такое «мл. серж.»?
– Это значит: младший сержант…
Какая-то необычная интонация в голосе отца заставила Алешку выпрямится и посмотреть на него. Отец стоял, вытянувшись, прижав руки к бокам. Он будто смотрел на стелу, но взгляд его был направлен куда-то вдаль, мимо этого высокого белого камня, так похожего на штык, который Алешка видел в многочисленных книжках о войне и фильмах.
Заблестевшая влага в уголках глаз отца удивила Алешку.
– Пап, ты что, плачешь?
– Нет, сын, я скорблю о тех, кто мог бы стоять сейчас со мной рядом, но…
– Пап, кто они?
Отец достал платок, тронул углы глаз и повернул серьезное, потемневшее лицо к Алешке:
– Хорошие парни тут лежат… Я воевал с ними. Здесь похоронен мой друг и бойцы моей роты…
Планам Катерины на этот день сбыться не случилось. По внезапно навалившейся жаре, принесенной густым степным ветром, Василий не поехал. Перегревался слабенький мотор «Запорожца». Они отъехали на километр, к рощице. Устраиваясь в тени, Василий хмуро выслушивал стенания жены по поводу его безрассудной траты времени. Он понимал, такова уж его карма на сегодняшний день, а потому терпеливо ожидал окончания выплеска негативных протуберанцев в его сторону. То, что жара спадет только под вечер было столь очевидным, что даже Катерине, уставшей от бесплодных попыток уязвить мужа, стала понятна бессмысленность расходования ее столь драгоценной нервической силы. К тому же ехать на ночь глядя уже не имело никакого резона.
Установив палатку, Василий привычными движениями «рассупонился», как он сам называл процедуру снимания протеза. Катерина собрала на покрывале небольшой ужин. Василий терпеливо ждал, пока она накормит детей и уложит их спать. Дождавшись ее возвращения, он осторожно проговорил:
– Кать… а Кать?
Молчание, особенно такого сорта, наводившее душевный трепет на его натуру, было ответом на виновато-просительную интонацию. Но Василий знал, что эту крепость за него никто не возьмет, а потому еще раз повторил:
– Кать… слышишь?
– Чего тебе?
– Ну, это… помянуть бы…
– И все?!
– Приехали же… вроде, за этим. Причина уважительная, ты ж, понимаешь сама.
– Я-то понимаю! У тебя, чтоб залить глаза, всегда находится уважительная причина!
– Ну что ты такое говоришь, Кать! Я ведь…
Еще с полчаса шло выяснение всех подлых свойств натуры Василия, но в конце концов Катерина сдалась. Поджав губы, она принесла одну из бутылей. Василий налил в кружку пахучего самогону, (от запаха коего Катерина брезгливо повела носом) и медленно, мелкими глотками выпил. Шумно выдохнув, Василий опустил голову и тихо сказал:
– В тот раз, последний для него, – он мотнул головой в сторону памятника, – мы тоже пили такой же ядреный…
Простертая к горизонту степь, засветившаяся вдали окошками станицы, нисколько не уменьшила яркости обсыпавших небо-свод звезд, трещали оглушительно-слаженным оркестром кузнечики и цикады, теплый воздух, наплывая волнами, уносил с собой тревожное, напряженное настроение, оставляя в душе только один покой…
Василий долго лежал без сна… Он выполз из палатки, надел протез.
– Вась, ты куда? – послышался шепот Катерины.
– Спи, я сейчас… покурю…
Василий прошел к кромке поля. Узкая, багровая полоска заката темным абрисом высветила его фигуру. Он стоял и глядел вдаль, туда, где посреди свекольного поля и на опушке рощи располагались тогда их окопы и блиндажи. Порывы теплого ветра, набегая на лицо, приносил запахи, совсем не похожие на те, въевшиеся в память гарью жженого железа, кислым запахом взрывчатки и сладковато-приторной прелью разлагающейся плоти на ничейной полосе.
И сзади, как будто из глубины времен, прошелестело едва слышным голосом:
– Товарищ старший лейтенант, вас ищет какой-то танкист…
И этот бестелесный голос будто раздернул перед глазами невидимую завесу, за которой одна за другой, стали выстраиваться картины того жаркого лета тысяча девятьсот сорок третьего года… В ротах чувствовалось напряжение. Вялая, едва обозначаемая постреливанием, кое-где трескотней пулеметов, окопная жизнь изматывала хуже всяких минометных обстрелов. Ожидание наступления делало людей весьма чувствительными к любым проявлениям житейских радостей. Так что объявленная банная помывка привела всех в приподнятое настроение. «С старшины двойные «наркомовские» после баньки причитаются!..».
– Ну что, Малышев, засиделись мы в окопах-то? Ну и будя! Пришел приказ по бригаде – наступление скоро.
Капитан снял фуражку, бросил ее на дощатый стол и, отдуваясь, вытер тряпицей потное лицо.
– У тебя здесь еще чуток прохладнее. Наверху просто адское пекло. Сам-то, небось, и носа отсюда не кажешь?
– Никак нет, товарищ капитан. Только что из роты вернулся. Прорабатывали статью из «Звезды». Люди и впрямь измаялись, сидя здесь почти месяц.
Василий никак не мог привыкнуть к новому ротному. После ранения Гриши Дубровина, его долгое время раздражала и манера общения капитана, и выговор, и просто его лицо. Поначалу Василию казалось, что этот капитан заскочил в гости – войдет Гриша и они отбудут по делам. Но время шло, дела требовали тесного взаимодействия и приходилось забывать, что его ротный совсем чужой человек. «Кстати, – подумал Василий, – в роте тоже не сразу приняли капитана». Потому к ротному Василий обращался только по званию и никак не иначе…
– Вот что, Малышев, собери взводных к тринадцати тридцати. Будем уточнять наши позиции. Точность в порядках – это залог победы! – Капитан издал самодовольный смешок. – Заодно организуй людей на раздачу боеприпасов по взводам. Иди.
«Он решил, что замполит роты – это мальчик на побегушках!», – неприязненно подумал Василий. Поднявшись, он козырнул, буркнул «слушаюсь» и вышел.
Окунувшись в ощутимо давящий зной, Василий стал пробираться среди наваленных в траншее друг на друга ящиков с боеприпасами. Их только что доставили для пополнения боекомплекта роты. Оглядевшись, Василий увидел среди солдат, сидевших в нишах, прорытых в стенках траншей, Волокушина.
– Старшина, ко мне!
Волокушин неторопливо поднялся, надвинул пилотку и, подойдя, козырнул:
– Слухаю, товарищ старший лейтенант.
– Почему здесь бардак?
Василий кивнул на ряды ящиков.
– Дак-ыть, взводный ушел, а нам приказал сидеть – ждать яго. Он пошел собирать сводку по взводам – кому шо надо.
– Ладно, жди лейтенанта. Скажешь ему, как придет, чтоб сразу же шел в блиндаж к капитану.
Протиснувшись мимо дремлющих солдат, Василий направился во второй взвод, к Аркаше Белову. Тот сидел в блиндаже и чистил портупею. Увидев Малышева, довольно гыкнул:
– Ну, что, Вась, двинемся скоро?
Румянощекий Аркаша был, как всегда, весел и шутлив:
– Солдатики гудят, что предстоит славная заварушка?! Говорят – по всем приметам так выходит!
– Ты что, в приметы стал верить? – удивленно вскинул голову Василий.
– А чё, не так разве? – хмыкнул Белов.
– Сейчас узнаешь. Иди срочно к капитану, он просветит. А приказ пришел точно.
– Когда начнется? – подался вперед Аркаша.
– Хрен его знает! Может, капитан объявит. Ладно, иди, а я в третий побегу.
– Не трудись, Копылов сейчас у Захарова. Со списком бегает по боеопеспечению. Можешь сразу идти туда. Знаешь же этого зануду – Захарова, он так быстро не отпустит Сашку, пока не изложит все свои требования – вплоть до обмоток.
Василий поморщился:
– Вот чирей на заднице! А по поводу наступления – из штаба бригады нет еще сведений. Да, кстати, распорядись по взводу, чтоб бойцы писали письма. Я чувствую, времечко поджимает, скоро так жарко будет, не до писем станет.
– Ну, и я тоже понял. Немчура что-то притихла. Не иначе, как разведкой занимаются.
– Расставь усиленные посты. Чем черт не шутит! Как говорила моя бабка, – смотри, где уснешь – как бы без порток не проснуться! Ладно, я пошел. Займись боекомплектом. Не то в наступлении немцев шугать на «ура» будешь. Сам знаешь – у нас в роте много шустрых, которые про запас нахапают и чужое. Бывай…
Василий ткнул Аркадия в плечо и исчез за поворотом траншеи. Аркадий смотрел ему вслед и думал: «Сколько нас, из офицеров первого набора в бригаде осталось – я да Васька… Может, это наступление…».
Он оборвал мысль и, поморщившись, тряхнул головой: «Ладно, чему быть, того не миновать. Как-то ведь до этого проносило… Чего нюнить заранее!».
Белов надел портупею и, выглянув из блиндажа, крикнул:
– Струев, ко мне!
Подбежавшему сержанту Белов приказал:
– Возьми двоих бойцов и немедленно дуй к капитанскому блиндажу. Возьмешь наш боезапас. Смотри там, не промахнись! Принесешь что сверху, будешь молодцом! Выполняй!..
Выйдя от Белова, Василий решил все же пройти в четвертый взвод. «Захаров хоть и зануда, но служака правильный. С ним спокойнее. Аркашка не любит его за то, что лишнее прихватить не дает… Ха, этого шустрика не переделать!..».
– Товарищ старший лейтенант, вас ищет какой-то танкист!
Малышев обернулся. К нему, распихивая бойцов по бокам траншеи, спешил Лагутин. Он махнул рукой в сторону капитанского блиндажа.
– Пришел какой-то танкист – старший лейтенант, а капитан ушел в штаб полка. Танкист говорит – срочное дело к вам!
– Чего ему надо?
– Не могу знать, товарищ старший лейтенант. Он говорит, приказ у него из штаба бригады и дело срочное! Идите, а то кабы чего не вышло!
Лагутин сделал озабоченное лицо и прибавил:
– Серьезный такой, этот старший лейтенант, хотя с виду еще и пацан совсем. Такой может, не продумав, наворотить дел осерчавши!
– Ну-ну, так уж и велика кочка! – усмехнулся Малышев. – Вечно ты со своей опаской носишься. С солдатами ты не больно чичкаешься, а стоит увидеть офицерский погон, как норовишь в кусты забиться.
– Ой, товарищ старший лейтенант, так это ж я для дела. Каждому приятно думать, что он такой большой и грозный! Вот я и напускаю дыма!
– Смотри, Лагутин, я тебе не поп, чтобы исповедоваться! Оставь эти соображения для девок, когда будешь заливать им свои байки!
– Да что вы, товарищ старший лейтенант, и в мыслях не было шутковать с вами.
– Вот-вот, как раз я по поводу этих мыслей. Чтоб во взводе никаких посторонних разговоров о капитане больше я не слышал. Все свои потешки засунь в вещмешок. Не то, сам знаешь, где можешь оказаться. Это в последний раз говорю, понял?!
– Хм, отчего ж не понять, понял, только я не один такой разговорчивый. Ребята разное говорят про капитана, что он, дескать, из безлошадных, в кавалерии при штабе сидел, да за что-то его к нам на передовую упрятали…
– Так, ты, я вижу, ничего не понял! Все эти разговорчики прекратить немедленно! Все это чушь собачья! Откуда только такие фантазии берутся! Вот за них и пойдешь в трибунал и штрафбат!..
Лагутин с готовностью козырнул и рявкнул:
– Есть прекратить все фантазии!
– Ну все, иди в расположение. Приду, проверю весь по списку боекомплект. Чтоб тютелька в тютельку! Не то с тебя, шельмы, все пример берут. Набивают карманы и «сидоры» сверх меры, а в наступлении еле ползут от тяжести, как раздавленные тараканы!
– Да ничо, напраслина все это! Ребята, ежели что и возьмут, так только чуток про запас, запас карман не тянет, а в бою завсегда…
– Свободен! – цыкнул на Лагутина Василий. Заметив у блиндажа фигуру в танкистской робе, он прибавил шагу. Подойдя, Малышев увидел перед собой сержанта-танкиста.
– Кто такой?
– Сержант второй танковой роты Меленчук! – вытянулся танкист. – С товарищем старшим лейтенантом прибыли до вас. Товарищ старший лейтенант дожидаются вас в блиндаже.
Василий отбросил плащ-палатку и шагнул в темное пространство блиндажа. Ему навстречу поднялся коренастый танкист. Даже в полумраке была видна светящаяся ореолом цвета льна его шевелюра.
– Комроты старший лейтенант Карпенко, – представился он и, протянув руку Малышеву, сказал просто и даже с шутливой интонацией. – Вот, пришел до этой хаты, побрататься с хлопцами. Как-никак, нужно узнать, кого это мы в наступлении будем тащить за собой в атаку!
– Правильно сделал, старший лейтенант! Кому, как не мне, замполиту роты, знать своих соседей в лицо, чтоб потом было на кого скинуть провалившееся наступление! Будем знакомы – замполит роты Малышев, – козырнул Василий.
– Будем знакомы, замполит. Моя рота придана вам в усиление. Мы тут, за рощей стали. А потому возникли вопросы по взаимодействию с нашей дорогой пехотой. Разведка нашего полка провела рекогносцировку местности в тылу фрицев. Уточняли рельеф и проходы в минных полях. Вот пришел обговорить детали взаимодействия, да в пролете оказался. Ваш комроты отбыл, как мне сказал его ординарец, в штаб батальона.
– Есть такое, – хмыкнул Малышев. – Теперь его скоро не жди. Пока по рынкам в городке не пошарит – не объявится. Наш капитан большой любитель сала. Так что нам с тобой придется до вечера куковать.
– Да не, зачем же тратить время зазря! Пошли ко мне, лейтенант. В моем хозяйстве я тебе скучать не дам. Мы и без твоего ротного найдем чем заняться!
– А что? Отметим заодно боевое содружество войск! Лагутин! – крикнул Василий в сторону занавешенного плащ-палаткой входа. В щель просунулась хитрая физиономия ординарца:
– Я туточки, товарищ старший лейтенант!
– Иди, найди старшину и быстро, одна нога здесь, другая там!
– Есть найти старшину! Я мигом, не извольте беспокоиться. А можа, что и сразу у него спросить, ну, чтобы время не тратить. Так я запросто, и вам ускорение дела и мне ноги не бить туда-сюда…
– Пошел вон, прохиндей! – заорал Малышев. – Ну вот что с ним сделаешь, совсем разбаловались люди! Больше месяца сидим в обороне, вот и мозги свернулись на бок!
– Так надо, старлей, профилактику устраивать! Вон мои, чуть что забаловались, так я их на матчасть бросаю! Например, гусеницы пару раз перебросят, глядишь – ходят, как шелковые!
– Да тут кроме рытья окопов ну ничего не придумать! И так изрыли все вокруг. Каждый себе чуть ли не хоромы отрыл! Иной раз по взводам идешь, так в траншеях пусто, будто все сбежали в самоволку! Сидят по щелям, как тараканы…
Плащ-палатка колыхнулась, и в блиндаж вошел Волокушин. Неторопливо вытащив пилотку, заткнутую за поясной ремень, он нахлобучил ее и козырнул:
– Товарищ старший лейтенант, старшина Волокушин прибыл по вашему приказанию!
Василий махнул рукой. Волокушин опустил руку с зажатой в ней пилоткой, аккуратно заткнул ее за пояс и выжидающе глянул на Малышева.
– Вот что, Волокушин… видишь, какое дело. Товарищ старший лейтенант прибыл к нам по важному делу – будущему совместному взаимодействию в наступлении. Надо бы уважить собрата по оружию, показать наше гостеприимство! Тем более, что они своей броней прикроют нас в наступлении. Принеси-ка нам, Петрович, фляжку с твоей горилкой.
Петрович отвел глаза:
– Да откель у меня горилка, товарищ старший лейтенант! Усе на контроле у ротного. Это у него и горилка, и ключик к каптерке, игде она схована.
– Петрович, ты смотри, я не погляжу, что ты такой важный! Иди, поскреби по своим сусекам! Не то враз озабочу внеплановой ревизией! Уразумел?
– Да я чяго ж… – вяло буркнул старшина. – Пийду, пошукаю, можа игде заныкалась у меня.
– Так бы сразу!
Через пару минут Волокушин принес пузатую фляжку из тёмно-зелёного стекла и с непроницаемым видом протянул ее Малышеву:
– Это усе, товарищ старший лейтенант.
– Ну, вот, это другое дело! Можешь быть свободен…
Подозвав Лагутина, Василий предупредил его, что если его будут искать, то сказать, что он пошел к танкистам, уточнить план совместных действий. Через несколько минут Малышев, Карпенко и Меленчук уже подходили к противотанковому эскарпу, отрытому на стыке рот. Остановившись, Малышев сказал:
– Дальше осторожнее. Развлекаются гады! У них завелся один пулеметчик, который чуть ли не круглосуточно выслеживает наших. Вот, смотри.
Василий взял прислоненный к откосу стены эскарпа шест и нацепив на него продырявленную в нескольких местах каску, приподнял над срезом вала. Тут же по его гребню взвихрились фонтанчики пыли и камешков. Вслед за цвикнувшими пулями донесся дробный перестук пулемета.
– Понял? И так все время без передыху! Можно подумать, что этот гаденыш не спит и не есть, а также до ветру не ходит.
– Да бис с ним, замполит! Проскочим на пузе! Не впервой, нам, танкистам, брюхом землю мерить, так ведь, Меленчук?
– Так точно, товарищ старший лейтенант. У прошлом разе три километра ползли, пыли нанюхались, когда наш танк обезножили, – почему-то шепотом ответил сержант.
– Это он говорит о разведке боем, – пояснил Карпенко. – Мы вырвались вперед, а пехота не сдюжила. Фрицы сковырнули нам гусеницу вместе с ленивцем. Машину пришлось бросить, а ночью ползти до своих.
– Значит, легшее будет ящеркой по лощинке ползти, вон до той высотки. От нее расположение третьей роты начинается, уже по окопам, прямиком к вам. Кстати, а как вы сюда добирались?
– Да нас ваш Лагутин по буерачкам протащил, как раз на блиндаж вышли. И никаких обстрелов не было!
– Ну и жучила! И что же он такое делал вне расположения роты?
– Кто его знает, только мы наткнулись на него в полкилометре от окопов.
– Так что же он не предупредил меня, что может провести нас другим путем!
– Хм, это понятно! У солдат всегда есть свои секреты от начальства, – усмехнулся Карпенко. – Ваши бойцы наверняка знают об этом, но будут молчать под любыми допросами. Вернетесь, спросите, а пока двинемся здесь.
– Ладно, ладно, – буркнул Василий, – вернусь, устрою такой допрос, что мало не покажется…
Добравшись до расположения танкового батальона, Карпенко приказал:
– Меленчук, проводи товарища старшего лейтенанта до нашего зверя. Я к комбату на рапорт.
Небольшая рощица, насквозь просматриваемая из-за отсутствия кустарника, была похожа на разрытый муравейник. Везде, где останавливался взгляд, Василий видел отрытые ямы, в которых расположились танки батальона. Прикрытые сверху ветками берез и ясеня, они производили впечатление огромных вздутий, как будто из-под лиственной подстилки пробивались гигантские грибы.
– Вот, товарищ старший лейтенант, наш зверь, – с уважительной интонацией сказал Меленчук.
Они остановились перед навалом веток и дерновых пластов. Из ямы, в которой находился танк, проглядывала лишь башня с намотанной на ствол травой.
Меленчук обошел танк и куском ствола стукнул по башне. Лязгнул открывающийся люк и из него высунулась жующая, с разводами масла по лицу, довольная физиономия.
– Сашка, ты опять жрешь, вместо того, чтобы заниматься делом! Ты люфт у рычага газа убрал?
– Товарищ сержант, я все сделал!
Сашка вымахнул из люка на землю и широко улыбнулся:
– Механика – как новяк, товарищ сержант! Можете проверить!
– Ладно, – махнул рукой Меленчук. – Где Колодяжный?
– Вона, спит…
– Зови сюда, сейчас старший лейтенант придет от комбата, будет вам работа!
Едва плотный, широкоплечий Колодяжный, зевая, предстал перед сержантом, как их окликнул подходящий сзади Карпенко:
– Смирно! – скомандовал он. – Колодяжный и Гринько – быстро натянуть брезент на каркас. Меленчук, – сходи на кухню, притарань что-нибудь из закуски. Ну, в общем, сообрази, чем можно угостить нашего пехотного собрата.
Карпенко повернулся к Василию:
– Все определилось, старший лейтенант. Комбат предупредил, чтобы утрясли как можно скорее план взаимодействия. Я доложил о ситуации, так он приказал обговорить все с тобой, а ты уже доложил своему капитану. Так что у нас есть вечерок, для всех удовольствий. Только одно условие – зови меня по имени, а я тебя. Согласен?
– А то! Ты здесь командир и начальник, тебе и карты в руки. Где расположимся?
– Вон, бачишь, мои хлопцы сооружают нам укромный уголок. В этой палатке мы сообразим наши дела.
– Отлично! Слушай, Хома, я никогда не был в танке. Пока налаживают палатку, разреши слазить в нутро твоего, как ты говоришь, «зверя»?
– Да будь ласка, только шлем надень, не то приложишься по неопытности к какой-нибудь железяке, побьешь голову, а мне будет знатный разнос!
Карпенко протянул Василию шлем и тот, натянув его на свою шевелюру, выдохнул:
– Вперед, пехота!
Протиснувшись через люк, Василий осмотрелся, привыкая к полусумраку танковых внутренностей. Его сразу же поразила необычайная скученность всякого рода предметов, развешенных, смонтированных, притороченных хомутами к стенкам башни и размещенных в нишах. Снаряды, пулеметные диски, были набиты везде, где только можно было себе представить свободное пространство.
Обвыкшись в полусумраке, он с огромным любопытством обозревал танковую тесноту. Внизу, во тьме, справа и слева от затвора пушки едва виднелись еще два сиденья. Василию почему-то расхотелось лезть в эти темные, пугающие своей щелеобразной жутью, пасти. Усевшись на сиденье сразу же под люком, он поднял голову:
– Слушай, Хома, тут у вас горницей и не пахнет! Тесновато!
Он покрутил головой. Вдруг, каким-то боковым зрением, среди этой мешанины танковой начинки Малышев заметил что-то очень знакомое, возникшее в памяти из довоенного времени. Ярко-бордовое цветовое пятно никак не вязалось с тускло-невзрачной окраской военного имущества.
Он протянул руку и взял этот предмет. К своему удивлению, предмет оказался хорошо знакомой ему книгой, которую Василий никак не ожидал увидеть здесь. Это были повести Гоголя.
– Ну и ну! Хома, это что еще за боеприпас такой!
Малышев сунул книгу в яркий проем люка над головой.
– А что? Я всегда вожу ее с собой. Места не занимает, а для души лучшего средства не найти.
– Ты знаешь, у меня дома осталась такая книга. Я жуть, как любил читать эти повести. Особенно «Тараса Бульбу». До чего ж сильная вещь, прямо дух захватывает! Откуда у тебя эта книга? Редкая штука!
– А мне батько с ярмарки книжку привез, из Зенькова! Привез и говорит: «Читай, сынку, про наших казаков, как жили и умирали!». Я сперва не разобрался в этих рассказах, а как дошел до «Тараса Бульбы», так и обмер. Веришь, плакал, как дитё, в конце, когда жгли атамана. Какие люди были! Как погибали! Разве сейчас есть такие могучие люди?!
– Ну, ты не говори! Мы тоже не слабо воюем!
– Хм, – усмехнулся Карпенко. – Да разве сейчас так воюют! Бьют людей, как мух, даже не видя друг друга. А раньше с саблей выйдешь на вражину, и станет сразу видно, кто есть воин, а кто так – песий хвост!
– Ниче, ты со своим зверем не слабше, идти в открытую на фрицевские позиции под ураганом снарядов!
– Не скажи, Васылю, – покачал головой Хома. – Это дело случая – останешься жить в такой атаке, или сгоришь, как факел… Тут не выбираешь смерть, она сама тебя ищет.
– Да брось, Хома! – с горячим убеждением возразил Василий. – Мы сами идем ей навстречу, через «не могу»!..
Голос Меленчука прервал их.
– Товарищ командир, все готово, будьте ласка с товарищем старшим лейтенантом пройти в схрон.
Карпенко подмигнул Малышеву:
– Пошли, Васылю, чего время терять. Сверим наши карты и твой самогон. Я почему-то думаю, что мой покруче будет!
– Круче зелья нашего Волокушина не бывает. Он его достает у самого зеленого змия!
– Ох, ты! Я испугался, задрожал! Поджал хвост и убежал!.. – хохотнул Хома.
Через час, до лежавшего чуть поодаль экипажа Карпенко донеслись энергичные возгласы их командира и его гостя:
– Не понял, надо бы еще сверить… Не, лишней каплей это не пробить… Забоялся, точно… мое снадобье со второго выстрела наповал валит… а я по холостому и не пробую, давай полный заряд!..
– Можа и нам чего предложат, – со вздохом предположил Сашка. – Не чужие, чай!
– Умолкни! – лениво, не открывая глаз, процедил Колодяжный. – Нашему лейтенанту сейчас не до нас. Как бы перед пехотой не опозориться! Как малец, – разошелся, а хватки на это дело нету!
– Точно! Ихний лейтенант, по роже видать, тот еще хват…
– Хм, какая разница, самогон скоро их обоих уравняет, – ухмыльнулся Колодяжный.
И точно, возбужденные возгласы в палатке постепенно стихали, только изредка вырывался за ее пределы чуть подпитанный крепкими парами голос то одного, то другого. Но более ничем оба командира себя не проявляли для посторонних ушей. Беседа их шла о самом главном, сокровенном, что мужчина себе определяет, как личное достоинство…
Хома достал их комбинезона фото и спросил:
– Васылю, у тебе есть дивчина? От побачь, это моя Марийка.
Василий аккуратно взял двумя пальцами небольшой кусочек картона и, глянув на него, с чувством сказал:
– Красивая, счастливчик…
– Слухай, Васылю, приезжай до мене после войны. Батько с ненькой встретят – уезжать не захочешь. Марийку мою увидишь – сразу дивчин наших полюбишь. В селе нашем много таких дивчин. Но Марийка одна.
Василий засмеялся:
– Думаешь, отобью?
Хома вдруг посерьезнел и с убеждением сказал:
– Этого никто сделать не сможет! Моя Марийка – дивчина строгая! Раз она выбрала меня из всех хуторских хлопцев – то на всю жизнь!
– Правильная твоя Марийка! Хорошего парня выбрала! Приеду – так и скажу!
Хома засмеялся и хлопнул Василия по плечу:
– Дружком у меня на свадьбе будешь! Хоть и знаю тебя всего ничего, но чую – ты крепкий хлопец!
Он плеснул в кружки самогону и, помолчав, сказал:
– Выпьем, друже, за победу, за то, чтобы дожили до нее, чтобы увидели своих родных и любимых!
– За победу!..
Не успели они выпить, как снаружи раздался осторожный говорок Сашка:
– Товарищ командир, комбат к нам пришел. Старшина с ним пока балакает.
– Зови, Гринько, комбата.
Убирая кружки и закуску, Хома с досадой крякнул:
– Кончились наши посиделки! По мою душу комбат! Пошли наружу, Васылю!
Подойдя к комбату, Хома доложил:
– Слушаю, товарищ подполковник!
Подполковник Самойлов кивнул и сказал стоящему рядом Меленчуку:
– Свободен, сержант! Вот что, Карпенко, надо полагать ты со старшим лейтенантом уточнил все вопросы по взаимодействию?
– Так точно, товарищ подполковник! Вся диспозиция сверена по карте и масштабирована на ландшафтной схеме!
– Через час я собираю совещание командиров рот и взводов! Пришел приказ о наступлении на восемь ноль-ноль завтрашнего утра. Думаю, товарищу старшему лейтенанту стоит поторопиться отбыть в расположение своего батальона. Приказ уже разослан по всем частям и соединениям, задействованных в наступлении.
– Слушаю, товарищ подполковник! – Малышев козырнул и спросил. – Товарищ подполковник, разрешите обратиться к старшему лейтенанту?
– Говорите…
– Бывай здоров, Хома… хочу с тобой еще свидеться!
– И я крепко надеюсь на это, Васылю!
Хома протянул Малышеву руку и крепко, до хруста в пальцах сжал ее. Василий ответил таким же рукопожатием и затем обратился к подполковнику:
– Разрешите идти, товарищ подполковник?
Самойлов кивнул:
– Идите…
Всю дорогу назад Малышев размышлял об удивительной встрече с голубоглазым крепышом-танкистом с такой светлой и открытой душой, что его тягостное настроение, с утра бывшее под стать пыльно-душной, насквозь пронизанной запахами войны, обстановке, исчезло, будто смытое теплым летним ливнем.
Словно за два с небольшим часа разговора с этим парнем, Василий, забыв о войне, неведомым образом перенесся туда, где нет ни страданий, ни крови, ни смерти, а есть ясное, бесконечное счастье такой же бесконечной жизни. Атака с самого начала пошла не так, как предполагали капитан и Малышев. Едва были преодолены первые двадцать-тридцать метров броска, как на бойцов обрушился ливень свинца из неожиданно обнаружившегося дота. Перекрывавший огнем крупнокалиберных пулеметов широкую лощину, между двумя пологими высотками, его огонь косил все, что попадало в этот сектор обстрела.
Выбранное направление удара, казавшееся подходящим для атаки, стало для роты огненным мешком. Капитан, настоявший на своем плане, попался как необстрелянный новобранец на удочку немцев. Засевшие на высотках по обе стороны лощины немцы демонстративно показывали свое превосходство в огневой мощи и людях, а почти полуторакилометровое пространство лощины казалось слабым, незащищенным от атаки пространством в немецкой обороне. Жидкие окопы в одну линию за однорядным проволочным заграждением так и манили ударить именно здесь. Робкие возражения о подозрительной легкомысленности противника в построении своей обороны по всей протяженности лощины, только вызвали раздражение капитана.
«Глупости все это! Надеются на свои укрепленные фланги и минные поля! Дураков надо учить! Вот тут и пойдем, – капитан Веселов категорически ткнул в место на карте, обозначавшее пространство лощины. – Все меньше потерь будет, огонь хоть и перекрестный, да не кинжальный. Артиллерия обработает перед атакой эти высотки поплотнее, вряд ли они потом окажут серьезное сопротивление с флангов, и проходы саперы нам организовали надежные…».
Укрепленный этой мыслью, капитан широким движением снова махнул по карте: «Взводы Белова и Малышева пойдут основным направлением атаки по лощине, Захаров и Копылов ударят по высоткам, для гарантии, что немцы снова не попытаются их отбить. Всем все ясно?».
Обманулся капитан, не учел явной подставы. Малышев почувствовал что-то неладное еще с вечера, когда шла вялая перестрелка. Но что это было, так и не смог определить.
«В мешок, как курей… как пескариков в бредень заманили!», – билась … мысль. – «Что делать?! Не могла быть мало-мальски серьезной обороной эта декорация! Ну чтоб заранее обмозговать то, что глаза видели почти месяц!.. Замылились глаза, обленились, сидя как на курорте… идиоты!».
Вжавшись в прожаренную до каменной тверди степную землю, с которой ветер сдул пыль, обнажив высохшие корни трав, Василий попытался поднять голову, чтобы осмотреться. В двух метрах от него серела небольшими валиками снарядная воронка. Сжавшись в комок, он одним броском очутился в спасительной глубине ямы. И тут же над ним, по хилому брустверу прошлась очередь.
«Не дожить нам с Аркадием до ротных должностей», – тоскливо мелькнул обрывок мысли. Василий почему-то припомнил разговор на последнем совещании в штабе бригады. Полковник Старухин, просмотрев дела офицеров, одобрительно кивнул в ответ на слова начштаба: «Точно, засиделись наши старлеи на взводах, пора им давать роту. На переформировании так и сделаем…». Василий прерывисто вздохнул: «Он забыл сказать: «Если останутся в живых…».
Однако надо было что-то предпринимать. Отлеживаться до темноты в воронке не получиться. Фрицы закидают минами…
Он чуть приподнял голову к срезу воронки и крикнул:
– Взвод, отходим, перебежками по одному! Волокушин, живой?
– Живой…
– Собирай людей справа от меня и ползите назад.
– Тут есть раненые, в воронке…
– Оставь им воду и отходи с остальными…
Малышев не успел договорить. Со стороны эскарпа вымахнули остальные два танка роты Карпенко и на полном ходу ринулись по лощине к кипевшему огненными очередями доту.
«Куда они поперли… Хома… там же минное поле…!». Рас-стояние между дотом и тридцатьчетверками быстро сокращалось, но вдруг передняя машина как-то вздыбилась, ухнул взрыв и ярких всхлест пламени рванул из-под его гусениц. Танк задымился.
Другая тридцатьчетверка, это был танк Хомы с номером 034, не сбавляя хода рванулась туда, где из темных, узких щелей били без остановки крупнокалиберные пулеметы. Их очереди не причиняли ни-какого вреда танку, но и расчет был не на это. Минные заграждения и пушки немцев, бившие с флангов дота, создавали непреодолимую преграду для любого танка.
Василий с замиранием сердца следил за маневрами тридцатьчетвёрки Хомы, зигзагами и рывками продвигавшейся вперед. Он не мог понять, почему Хома так ведет танк. Но, приглядевшись, по-нял, что машина двигается от одной воронки до другой по кратчайшему расстоянию. «Вот оно что! Там нет мин, а между воронками еще угадать надо – есть ли они там!..».
Разрывы снарядов, не попадая в машину, только помогали разминировать дорогу до дота. Когда остались считанные метры, танк Хомы сотряс мощный взрыв. Гусеница, оторванная миной, размоталась и танк резко встал. Затем, в это же мгновение он рванул с места и на одной гусенице развернулся боком к амбразурам дота, тем самым закрыв ему весь сектор обстрела.
Едва Хома успел сделать этот маневр, как в танк попал снаряд. Машина вздрогнула, задымилась тонким серо-черными дымными хвостами. Малышев, застыв, глядел, не покажется ли из танка экипаж. Люки на башне открылись и оттуда вымахнула одна фигура. Она рванула на себя кого-то снизу и два человека рухнули на землю. Из баш-ни показался еще один, он с трудом двигая руками, оперся на срез люка и перевалился из него наружу. Больше никто не появился. И какими бы долгими не казались эти мгновения, но Василий инстинктом понял, что дот перестал давить все вокруг своим огнем.
Вскочив на край воронки, Малышев заорал что было сил:
– За мной, в атаку, братва, бей гадов…
Он еще кричал, как вокруг него, поднявшиеся в яростном броске, мчались бойцы его взвода. В раже атаки Василий едва почувствовал тяжелый удар в плечо. Ударом его развернуло и шатнуло. Бросив взгляд налево, Малышев увидел расплывавшееся темное пятно по плечу и рукаву гимнастерки. И тут же обложная боль достала его до самого сердца.
Василий опустился на колени, сбросил ставшую вдруг тяжёлой каску и, сцепив зубы, зажал рукой рану. К нему подбежал Лагу-тин:
– Товарищ старший лейтенант, сильно зацепило?!
– Не знаю, в плечо… – Василий, сморщившись, отодвинул воротник гимнастерки.
– Ф-ю-ю! – присвистнул Лагутин, едва увидев рану. Он рванул из подсумка санитарный пакет. Опустившись на колени, он осторожно приподнял руку Малышева и перевязал рану.
– Товарищ старший лейтенант, нужно срочно в медсанбат, ключица, кажись, перебита! Давайте, я подмогну!
Оба легли на бок, спасаясь от шальных пуль и осколков, и ползком двинулись назад. Василий, кряхтя от сильной боли, все же глядел туда, где его рота, прорвавшись через вторую линию немецкой обороны, неудержимо наступала дальше. Дот был захвачен и по его пологим скатам бежали дальше бойцы батальона. Но в последний момент, когда темная пелена скрыла все с глаз Василия, он видел черный корпус догоравшего танка Хомы...
Когда Василий пришел в себя, он увидел сидевшего рядом на корточках Лагутина, смолившего «козью ножку». Василий пошевелился.
– О, товарищ старший лейтенант! Очнулись! Так все в по-рядке! Доктор смотрел вас и сказал, что ключица задета по касательной, так что наскрозь ранение и через недели две он вас поставит на ноги!
– Ты-то что здесь делаешь! – с натугой выговорил Малышев. – Почему не в роте? Сдал меня и назад, не то капитан припомнит тебе твои насмешки… пришьет тебе самоволку и в штрафбат!
– Ха, как бы не так! – расплылся в ухмылке Лагутин, – я уже бегал в роту, вон, чемоданчик ваш принес. А капитан – ему теперь не до меня, вона он сам здесь с раной в ноге! Да, кажись, разрывной угораздило!
– Ладно, – выдохнул Малышев. – Помоги сесть…
Голова отчаянно кружилась, но Василий, преодолевая тошноту, приказал Лагутину:
– Спроси у санитаров… не приносили ли… сюда раненых танкистов?
– Сей момент! – козырнул Лагутин и вскочил. – Вы пока прилягте, негоже рану бередить. Я…
– Иди… Лагутин…
Минут через пять Лагутин объявился с озабоченным лицом.
– Есть один, кажись, это тот, что со старшим лейтенантом к нам приходил. Контузия у него и нога перебита…
– Хорошо… Помоги встать.
– Да куда вы! Вас вона как шатает и лицо горит!
Василий стиснул зубы:
– Делай, что говорю…
– Есть, – нехотя буркнул Лагутин.
Обхватив Малышева за талию, он осторожно повел его в обход лежаков и носилок, на которых лежали стонущие и бредящие люди.
– Вот он, – кивнул Лагутин.
Василий увидел лежащего на козлах танкиста. Нога его была обнажена и вдоль нее бинтами были примотаны две деревянные шины. Он подошел ближе и узнал в лежащем танкисте Меленчука. Тот, повернув голову и увидев Малышева, с трудом произнося слова, прохрипел:
– По…гиб, коман…дир, не…т боль…ше Хомы…
– Как погиб! Я сам видел, как вы выбирались из танка!
– Он… не усп…п…ел, Са…ш…ку выт…т…олк…нул, а сам…
Малышев медленно опустился на край лежака. Он до последнего надеялся, что Хома пусть ранен, но жив. Некоторое время он собирался с силами. Поднявшись с помощью Лагутина, Василий чуть наклонился к Меленчуку и сказал:
– Выздоравливай танкист… мы еще должны поквитаться за Хому…
Прикоснувшись к плечу Меленчука, он тихо добавил:
– Если бы не твой командир, лежать бы нам всем сегодня на том поле… Прощай, сержант…
Через неделю бригаду отвели на переформирование. Вернувшись в свой батальон, Василий сразу же получил назначение на должность командира роты. Аркадий, к тому времени уже вполне освоившийся на должности ротного, с радостными восклицаниями встретил Малышева:
– Черт везучий! Мне еще перед наступлением было видение, что быть нам с тобой ротными! Но я тебе об этом даже и не заикнулся, не то обсмеял бы меня почем зря!
– Да тебя обсмеешь, угря скользкого! Вывернешься откуда хошь!
– Ну, теперь поживем, хлеб пожуем! Так ведь ротный! Не убило нас тогда, будем жить и дальше!..
Василий слушал радостные восклицания друга, а сам думал: «Эх, Аркаша! Приняли нашу смерть на себя другие… сколько буду жить – столько буду помнить тебя, друже Хома…». Алешку с Витькой разбудили ни свет, ни заря. Протирая заспанные глаза, он смотрел, как отец с матерью, бродя в молочных струях тумана, спешно собирают вещи. Увязав на багажнике последние узлы, отец сказал Алешке:
– Помоги мне.
Алешка вскочил на ноги:
– Чего делать, пап?
– Пройди по опушке, вон там, и нарви разных цветов, да быстрее, нам некогда.
Алешка вскочил на ноги:
– Сейчас принесу, я быстро…
Он не стал размышлять, зачем отцу понадобились цветочки. Ему страшно хотелось побыстрее тронуться в путь, а по голосу отца Алешка понял, что без цветов они не поедут.
На поляне, перед рощей, Алешка увидел целую россыпь синих, желтых, красновато-белых и фиолетовых цветочных островков. Он торопливо, не разбирая что и как собирать, стал рвал цветы, укла-дывая их на полусогнутой руке. Минут через пять у него образовалась огромная охапка разноцветного сбора. Алешка подумал, что отец будет доволен, что он так быстро насобирал много красивых цветочков.
– Па, вот, готово!
Отец кивнул и, чуть помолчав, сказал серьезно и тихо:
– Пошли…
Они направились к памятнику. Подойдя к стеле, отец взял цветы у Алешки и положил их на плоскую плиту перед доской с фамилиями. Выпрямившись, отец молча положил руку на Алешкино пле-чо. Алешка чувствовал, как подрагивает горячая ладонь отца на его плече.
– Ну, сын, пора…
Первое время после отъезда Алешка искоса посматривал на отца. Ему было удивительно видеть выражение его лица таким, каким раньше он никогда не видел. Печальные складки у губ сосредото-ченное, с глубокой морщиной меж бровей на высоком лбу, лицо отца казалось ему каким-то далеким, очень похожим на виденные бронзовые скульптуры будто на месте отца сидел не он, а его бронзовое отображение.
Алешка задумался. Может, это так и есть, может его отец сейчас был не с ними, а там, у этого, оставленного в степи, одинокого памятника его другу и бойцам его роты…
Дорога к морю